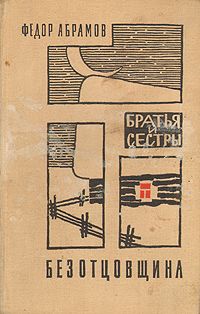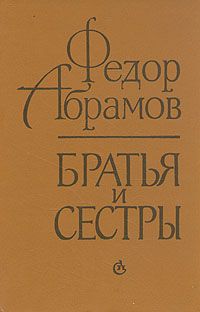Юрий Хазанов - Горечь
Римма сделала это за меня, и ответ был получен. Но не по нашему адресу и не очень скоро — потому что отправлять письма ему разрешалось два раза в месяц и только к ближайшим родственникам, а значит, — к Ларисе и к сыну. Что удивительно: размеры писем не ограничивались, поэтому в каждом из них он немало писал о своих друзьях и знакомых, а также о совсем незнакомых — например, о французском религиозном деятеле XI–XII веков Петре Амьенском, о японском писателе Кобо Абэ, о Киплинге, о Василе Быкове… (За пять лет заключения он написал 75 писем. Мог бы, согласно закону арифметики, написать около 120-ти, но не следует забывать, что за малейшую провинность его лишали этой милости — а провинностей у него хватало: в карцере сидел не единожды.)
ИЗ ПИСЕМ ЮЛИЯ ДАНИЭЛЯ
(без моих комментариев)
21/III-66
«…Сынок, упаси меня Всевышний настраивать тебя в духе недоверия к друзьям. Когда я писал о нежелательности разговоров, я имел в виду разговоры с людьми малознакомыми. А что касается твоих друзей, то тебе, конечно, виднее самому. Не забывай, впрочем, что в числе моих друзей были Эссель Гарбузенко, Хазанов…»
31/III-66
«…Что касается Яна (Гарбузенко) и Юры (Хазанова), то писать я им не буду. Если они чувствуют свою вину, то могут обойтись без посредника, написать сами. Я уже говорил, что мне их жаль и что претензий к ним у меня нет… Не знаю, чем в итоге обернётся для меня заключение; покамест оно обернулось постоянной нервозностью: как ведут себя, что думают, говорят люди, с которыми у меня были дружеские, приятельские или вообще хоть какие-то отношения? Это сейчас мой пунктик, бзик…»
Письмо пятнадцатое17/X-66
«…Возвращаюсь к прерванным темам. Ты, Ларка, пишешь, что, дескать, пример с Хазановым склоняет тебя в сторону признания Сашкиной (Воронеля) правоты („не прощать недостатки, быть строже“ и т. п.). Ну, ладно. Мы будем требовательны и придирчивы, как дьяволы, мы будем оценивать людей, будем мудры, как жюри на собачьей выставке. И что? Мы сможем предусмотреть, как поведёт себя тот или иной индивидуй в тех или иных обстоятельствах? А поведение Яна (Гарбузенко) можно было предусмотреть? А поведение Эсселя? Ну вот Эссель. Не трус. Человек, побывавший в разных переделках… А я? Я же — лентяй, лодырь, слабовольное существо, привыкшее плыть по течению. Только и умел, что женщинам глазки строить. Можно ли такому типу доверять?.. Бросьте, мои милые! Ничего ваша сугубая требовательность на даст, окромя усложнения отношений, сокращения контактов и горячечного блеска в глазах…
Уф! Я отворчался…»
Письмо пятьдесят седьмое7/I-69[7]
«…И ещё очень трогательная записулька от Юрочки Хазанова — меня аж слеза прошибла. Эк их разбирает! Надо отдать должное Хазанову: его послание умнее и тактичнее Гарбузенковского, без выпендриваний. Я бы, конечно, мог ему ответить: мол, тронут, кто старое помянет, вернись ко мне, я всё прощу, как тебе служится, с кем тебе дружится (как тебе бродится, с кем переводится) и прочее. Но — пардон: точки над i — тот минимум, та печка, от которой я согласен танцевать. Так что, для того, чтобы „повторилось хорошее“ (на это надежды мало — дай Бог, чтобы плохое стерлось), нужно что-то делать, т. е. оценивать происшедшее — не мне, а ему. Это при том, что я отлично понимаю свою вину, точнее — своё легкомыслие нелепое… Ладно, хватит об этом…»
Письмо шестьдесят третье30/VI-69
«…С этой частью письма непременно ознакомь Хазановых. Пожалуйста, не перепоручай никому, созвонись и либо поезжай сам, либо пригласи их (его, её) к себе.
Скажи им, что это письмо — запоздалый ответ на Юркино поздравительное письмецо. Запаздывает оно и по причинам чисто техническим, и по другим, более сложным. Вот об этих сложностях и поговорим немножко.
Но прежде, чем излагать некоторые свои недоумения, помешавшие мне ответить сразу, хочу сказать несколько слов, может быть, нужных для прояснения ситуации.
Никогда, ни одной минуты за все эти годы я не определял то, что сделал Юра (точнее, то, что произошло с ним), иначе, чем словом „слабость“. Определение, конечно, не из лестных, но что делать, другого слова не подберу. Могу сказать ему в утешение, что слабости, растерянности, чувству беспомощности и беззащитности поддавались в таких же и сходных обстоятельствах люди более мужественные и хладнокровные, чем мы с ним. Это — мои собственные наблюдения за эти годы.
Это я к чему? А вот к чему: по этому поводу у меня к нему претензий совсем нет, есть лишь сожаление о случившемся с ним. Тем более, что основная вина на мне: я не должен был взваливать этот груз на его плечи. Но стих такой нашёл на меня…
А вот по другому поводу у меня претензии есть, и я думаю, что по праву друга (а ведь мы с ним были, мне кажется, достаточно близкими друзьями) я могу их выдать на всю катушку.
В настоящих условиях здесь не стоит вопрос о жизни и смерти — выжить можно без особых усилий (я говорю о себе). Но ведь „не хлебом единым“! Для меня этот „не хлеб“ — реализуемая память людей, которые меня знали, внимание, сочувствие. Это необходимо было мне — хотя бы на первых порах, — чтобы не поплыть по течению, не опуститься, не стронуться с ума от фантастичности обстановки.
И вот эта поддержка у меня была — от близких, дальних и даже от незнакомых. И в этом согласном хоре я, к сожалению, не слышал некоторых голосов. Я не буду называть поимённо тех, кто счёл за благо сделать вид, что меня в их жизни не существовало; их, кстати, очень-очень немного.
Не слышал я и Юриного голоса. Это было для меня тем более странным и огорчительным, что ему-то, казалось бы, в первую очередь надо было объясниться со мною. И, как я теперь предполагаю, ему это было нужно ничуть не меньше (если не больше), чем мне. Ну, что ж. Я повздыхал-повздыхал и постарался не думать об этом. Мне это не очень удавалось: то вспомнится что-то хорошее или смешное, то Мишка в письме обмолвится; то встречу фамилию в периодике. Но что я-то мог сделать? В таких случаях можно расценивать, как угодно, и навязываться я не мог и не хотел. (Я, правда, писал давно уже, с год назад или больше, что зла не держу и никаких счетов предъявлять не собираюсь; не знаю, известно ли это ему.)
И вот — его поздравительная записка.
Почему вдруг? Почему именно теперь? Почему не раньше, не сразу? Я могу предположить недоброжелательство со стороны общих знакомых, удерживавшее его от писем; но разве нам нужны судьи, чтобы поговорить и объясниться? Или он думал, что я настолько зазнался, что личные свои отношения отношу к сфере „общественных интересов“? Право же, я никогда не давал повода подозревать меня в излишнем самомнении…
Это одно; а другое — некая „лёгкость“ тона в его письме, этакий элегантный обход „больных“ вопросов. Было б ему написать просто: что и он, и Римма по-прежнему любят меня, что он жалеет о случившемся; да и в невольной вине, честное слово, не так уж страшно признаться. Может, он не решился написать так, потому что не знал, как я к этому отнесусь?
Если непременно уж нужна словесная формула (для себя или для других), то вот она: моя первая обида давным-давно прошла; я очень хорошо (даже слишком хорошо) представляю себе те обстоятельства, в которые он влип; я с радостью увижусь с ними по возвращении; мне решительно наплевать, что могут по этому поводу говорить…»
* * *Хочу на минуту прервать письмо Юлия и привести примечание к нему — нет, не моё, а его сына, бывшего «Саньки», давно уже ставшего взрослым.
«Эта часть общего письма, — пишет сын Юлия, — положила начало восстановлению отношений между Ю.Д. и Юрием Хазановым… Фраза „мне решительно наплевать, что могут по этому поводу говорить“ связана со слухами о том, что некоторая часть их общих знакомых подвергла Ю. Хазанова своего рода остракизму как „свидетеля обвинения“…»
И тут уже я — автор всей этой тягомотины, — как сто лет назад Лев Толстой, «не могу молчать»! Тянет спросить: а кто же эта «некоторая часть общих знакомых»? И откуда она, эта «часть», могла знать, чтС же именно жалко лепетал я на допросах и на суде? Видимо, только от Ларисы, которой через адвоката могли быть известны некоторые подробности засекреченного судебного дела. (Между прочим, я уже раньше упоминал, что с адвокатом Юлия после процесса связалась через свою знакомую моя школьная подруга, юрист, и тот сказал ей, что по материалам дела ничего в пользу обвинения и во вред Юлия я не произносил.) Каюсь, не произносил также ничего существенного в его защиту и, тем более, не осуждал его обвинителей. Но, полагаю, если бы даже осмелился сделать то или другое, Юлию это не слишком помогло…
Выдержки из 63-го письма Юлия, написанного уже не в мордовском лагере, а во Владимирской тюрьме, славившейся своими особенно тяжёлыми условиями, куда его отправили, видимо, в наказание, хочу закончить ещё несколькими фразами: