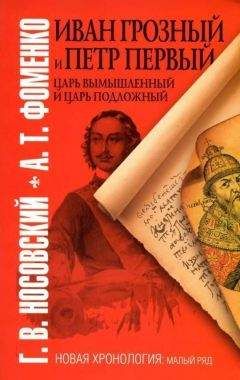Роберт Штильмарк - Пассажир последнего рейса
— Мы — люди божии, спаси Христос! С поклонения святым местам идем, от схи-игумена Савватия к женской святой обители.
— Что там за стрельба была, в вашей стороне?
— Далече стреляли, батюшка, на пустоши, за болотом, а кто да кто — нам неведомо. Сказывали нам старцы, быдто охотники надысь волков били.
— Ты, дед, слепой, что ли?
— Воистину так, сыночек! Двадцать лет, как света божьего не узрю. Отрок водит.
— А документ у тебя какой-нибудь есть?
— Как не быть, родимый. Кажи бумагу начальнику, Сергий!
— Идете зачем к женским скитам?
— К чудотворной целительнице Анастасии, родные. Старец Савватий надоумил. Дескать, через ее ангельскую молитву исцеление очесам обрести.
— Ну коли так, можете оглобли назад поворачивать! — сказал Жилин. — Нету там больше вашей целительницы. Ей самой теперя целители нужны. Зарезали вашу святую…
— Свят, свят, свят! И праведницы не пожалели! Все едино, отрок Сергий, веди к старицам, помолимся за душу ангельскую.
— А вы тут богомольцев с винтовками не встречали? Я мальчика твоего спрашиваю, дед. Как тебя? Сергий, что ли?
Вопрос задавал летчик, Иван Егорович Ильин. Макар похолодел от страха и молчал. Зуров же, напротив, уставил прямо на говорящего незрячие очи и говорил натуральным тоном:
— Отрок Сергий у нас напуганный сызмальства, людей с ружьями страсть как боится. Охотники какие-то вроде вас верхами быдто утречком к болоту мимо скита Савватиева проехали. Нам-то, грешным, сие и ни к чему!
— А про самолет ничего не слыхали? Где он тут спустился, в какой стороне?
— Самолет? Что ты, батюшка, такого здеся отроду и не слыхано. Чай, мы не впервой в этих местах богоспасаемых. Когда Яшмой шли, мужики чего-то про еропланы толковали, а здеся — нет!
— Эх, Иван Егорыч, — в сердцах сказал Жилин летчику. — Сюда бы вместо темноты этой божьей ребятишек наших яшемских! Мигом бы к шанинскому самолету привели! Ну поехали искать, что же делать? Может, кого потолковее встретим.
— И мы с тобою, Сергий, побредем. Прощевайте, люди добрые, господь вас храни!
Обе группы разошлись в противоположные стороны. Зуров угрюмо молчал, поводырь ежился и раздумывал над всем происшедшим. Вот когда возродились вдруг в его памяти слова матери: «Спроси в душе своей у господа или у служителей храмов божиих, как поступить по господней воле».
Так ведь он, Макарка, поступает сейчас именно так, как наставили его служители храма! Там, на болоте, медленно уходят в трясину красные звезды на крыльях, может быть, тонет раненый летчик… Стоило бы Макару сейчас показать рукой направление, и всадники сейчас точно знали бы, куда скакать на помощь гибнущему. Или, в худшем случае, где искать тело летчика. Но тогда мог легко раскрыться маскарад Павла Георгиевича Зурова, белого офицера, виновника гибели солнцевских крестьян…
Так как же было Макару поступить по-божески — помогать зуровскому обману или помочь розыску сбитого зуровцами самолета?
Тяжело стало на сердце у Макара от этих мыслей!
А тем временем они уже дошли до женской обители.
Здесь ни тишины, ни покоя не было! Почти все население женских скитов толпилось на берегу оледенелой Ключовки, у проруби. Снег на Ключовке был расчищен и разметен, лопаты и метлы валялись на берегу. Все скитницы еще обсуждали с горячностью некое чудо, свершившееся здесь только что, у всех на глазах…
— Где же праведница убиенная? — спросил Зуров. — Кто секиру-то на нее поднял?
— Не убиенная, а пораненная до полусмерти, — отвечала старуха черноризница, утирая слезы. — Ох, кормилец, что тут было — и пересказать словами нельзя. Схватили убивицу окаянную, потому как сперва четверо чужих на лошадях прискакали, а потом и пятый через болото по ее следу пожаловал. Немножко не поспели, Анастасьюшку от ножа спасти.
— А где же инокиня пораненная? Ай отправили?
— Кабы отправили! А то, вернее сказать, на крыльях унесли. Токмо, архангельские ли те крылья или… сказать страшно, чьи., про то единый господь во небесех ведает. Нам, убогим сиротам, матерь божия того не открыла.
— Ты толком-то расскажи, матушка, как оно было…
— Нешто перескажешь! Анастасьюшку как подняли с пола, так уж без памяти. Кое-как перевязали ее старицы, а тут этот прилетел, кружить над нами стал…
— Ероплан, что ли? — подсказал слепец.
— Он, кормилец. Тут один из поимщиков убивицы, в кожаном весь, голова круглая, достает из кармана пистоль, и веришь ли, три звезды красных в небо взлетели! Стали тому коршуну с земли знаки подавать. Нам кричат — ежели желаете, чтобы сестра ваша жива была, помогайте лед расчистить. Что тут было — и не скажешь! Как спустился к нам коршун-то, положили на него Анастасьюшку, на старый след машину эту наставили, еще с полчаса снег перед ней разметали, а потом — завыл, затрещал — и нет его. Да сказал еще летун, что еще раз к нам сюда прилетит, второго коршуна выручать. Пришлые-то вам не встретились? Пошли того коршуна на болоте искать. Может, говорят, летун еще живой, сюда его везти хотят на лошади.
— Слышь, матушка, запрягите и мне с отроком лошадку!
— Что ты, божий человек, мало погостил у нас?
— При делах столь дивных… в яшемскую обитель помолиться спешим. Только бродом переправьте, а там уж отрок и пешой доведет.
— Нет ли у тебя, странник божий, сольцы фунтика? Давненько солью бедствуем.
— С фунтиком-то, сверх денежки, я бы до самой Яшмы доехал.
— И мы довезем, коли найдешь.
— Ну господь с вами, так и быть. Запрягайте!
Яшемский пастырь, отец Николай Златогорский, окончательно убедился, что ночью его ограбили. Неужели Стельцов?
Отец Николай последний раз открывал ларец перед его приходом. Через полтора часа после ухода Стельцова явились те двое, Сашка Овчинников и ротмистр Сабурин, но к их приходу ларца как будто уже не было на месте. Матушка призналась, что котомка Стельцова показалась ей поутру потяжелее, чем с вечера. Батюшка обозвал жену старой дурой и разиней, но от этого на сердце не полегчало.
Ларец теперь, очевидно, уже в руках господ офицеров, в партизанском отряде. Обнаружат там золото — трудом накопленные деньги, плата за бесчисленные крестины, свадьбы, похороны, панихиды, освящение домов, водосвятие…
Еще находились в ларце некие предметы. Умирающая Мария Шанина отдала все это отцу Николаю в час предсмертной исповеди. От Антонины пришлось эти предметы утаить, чтобы скрыть правду об отце. Сначала отец Николай намеревался просто пожертвовать украшения и ценности Марии Шаниной в монастырскую казну, но… как-то не собрался. Решил поберечь их до совершеннолетия Антонины, тем более что монастырское имущество с самого 1917 года находится под угрозой государственной конфискации. А как докажешь теперь, что он просто-напросто не присвоил себе эти шанинские драгоценности? Если банду переловят и документы Шаниной вместе с украшениями попадут в руки красных, отца Николая могут разоблачить как укрывателя ценностей, как лживого пастыря, обманувшего свою духовную дочь…
Стучат! Кого еще несет так поздно? Господи Исусе, да это Макарий Владимирцев! И в каком виде! В нищем оборвыше трудно узнать родственника-поповича! Как юродивый!
— Отче Николай! Вас просят сейчас же, минуты не теряя, прийти на кладбище.
— Да кто меня там ждет-то?
— Отец Никодим.
— Не знаю и не ведаю.
— Он говорит, что ведаете. Насчет вашего пропавшего ларчика.
— Ах, вот оно что!
Ни о чем больше не расспрашивая отрока Макария, священник тотчас оделся. Где Серафима Петровна? К соседке понесло болтать о вчерашних делах! Что за спешка такая у этого отца Никодима?
Темно. Слабый мороз. Чистое и просветленное небо в звездах. Скрипящий снег под ногами. Вот и кладбищенские ворота.
Вошли в калитку.
— Где же он, твой отец Никодим? Один он там или… с кем-нибудь?
— Один, один. Ожидает в часовне.
Кладбищенская часовня озарена негасимой лампадой перед образом спаса. На каменном полу — облетевшие и все еще не потерявшие осенних оттенков листья, кленовые и липовые. В слабом свете лампад они кажутся нарисованными, будто на полу выложена мозаика из затейливых красно-желто-зеленых изразцов.
В углу — темная сгорбленная фигура человека в монашеском одеянии под овчинной шубой. Человек распрямляется и загораживает выход, как только отец Николай переступил порог…
…Макарка, как ему было велено, ждал у кладбищенской калитки. Он слышал, как в часовне что-то негромко и глуховато хрустнуло, словно там переломили сухую палку… Потом по кладбищенской аллейке быстро прошел к воротам «отец Никодим». У Макара жарко и часто стучало сердце. Он боялся спросить, что совершилось в часовне, но уже и сам догадывался о самом страшном и столь же непонятном, как и все события этих дней…