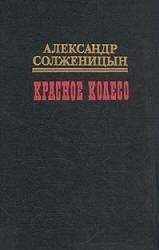Александр Солженицын - Красное колесо. Узел II. Октябрь Шестнадцатого
Ну, так. Или не так. В общем, казак мироновской сотни получил письмо: умерла жена, а мать больна, двое детей беспризорные. Миронов пообещал ему месяц отпуска и уволил в город дать телеграмму. А казак до того затемнился с расстройства – встретил в городе командира полка и чести ему не отдал. Приказ: наложить взыскание. Филипп поставил казака под боевую выкладку на два часа, а сам пошёл хлопотать ему отпуск. Ответ полкового: взыскание недостаточно, в отпуске отказать. Ну ведь есть же такие твари с погонами, скажите?
– Увы, есть, – даже слишком просто согласился полковник. – Но и от отдания чести однажды отказаться – армия в прах.
Звякнули тормоза – а вагоны почему-то не стронулись. Паровоз дал легонько назад – и тогда уже снова мягко взял.
– Но ведь наказал же! Нет: за тяжкий проступок неотдания чести – 25 розог в присутствии сотни. Вот мы, казаки, палачи какие: нас самих дерут как детишек… Миронов пошёл просить отмены. Ах так? – пороть в присутствии полка! Ну скажите, как с ними служить?
С ними?… С вами?…
– Побои теперь изжиты, это прошлое, – уверенно сказал полковник. – Среди офицеров это считается позор. И розги – редкость. Их вводили – как избежание военного суда.
– И Миронов перед строем полка скомандовал: “Такой-то, десять шагов вперёд! Как твой непосредственный начальник я запрещаю тебе ложиться на эту позорную скамью! Кру-гом, на место в строй!”
Взмыв бровей промелькнул у полковника: честь отдавать надо, но так - тоже лихо!
– И что ж?
– Третье преступление! Значит укоренённый! Отозвали в Новочеркасск и перед тем же генералом Самсоновым снял адъютант с бунтовщика подъесаульские погоны, и кончилась служба в Войске Донском. Вот так… И герой, и прославленный, и кавалер, но ежели начинаешь размышлять… Как нам, казакам, размышлять, скажите? Ведь потрудней, чем остальным прочим? А все нас клянут…
Ковынёв потёр лоб. Пощурился в окно, почти уже безвидно, серело там.
– Вот это и мучит. Какая ж всё-таки насмешка… истории. Именно казаки. Самые непримиримые к холопству. От него бежавшие на край земли за волей. И в потомках своих воротились в Россию – эту же самую волю отымать? У той же самой голытьбы, из которой вышли? Скакать, гикать и хлестать – в самую гущу своего народа. Разврат души. И жалость. Ведь не злодеи, а: не ведают, что творят.
Не отозвался полковник насчёт холопства и воли, а о Миронове: чем же кончилось?
– А вот что Филипп придумал. Когда-то отец его, несостоятельный, справить сыну строевого коня не мог, развозил по Усть-Медведицкой воду в бочке. Так теперь и разжалованный подъесаул: на шинель без погонов нацепил все ордена и тоже в бочке воду повёз, по копейке ведро!
Картинка – для лучшей художественной страницы, а соришь вот так вагонному спутнику, толчком из груди выносит само. Столько в жизни людей, событий – какому перу за ними успеть?
– Устыдились. Назначили писарем земельного стола в Новочеркасск. Так не унялся Филипп и там: представил проект перераспределения всей донской земли!… В кого зёрна свободы брошены – того уже не исправишь.
Как и Федю самого.
– А в эту войну подал добровольцем. И представьте же, как воюет лихо!
А свет за окном убывает. Отпадает приманчивое мелькание заоконного перемежного мира, всё меньше отбирает внимания на себя, всё больше оставляет спутников друг другу.
– Так вы, значит, коренной донец?
– Да даже отец мой – станичный атаман.
– А сами не служили?
– Сам я нет, – каждый раз со стеснением, как о позоре, признаётся Фёдор Дмитрич, – по глазам. Брат тоже, по хромоте, так что и коней не справляли. А учился я в Петербурге, на историко-филологическом. Десять лет в орловской гимназии преподавал, четыре в тамбовской.
– В Тамбове? И я там был один раз, – усмехнулся полковник. – Женился.
– Да-а? – Фёдор Дмитрич поколебался. – Представьте, я тоже там чуть не… – Перевздохнул. – Зимой я в Петербурге, но всякий год и в станице, месяца три-четыре. И – признают меня земляки, идут ко мне как к судье мировому, к адвокату. За доктора иногда. И председателем станичного кооператива.
Ещё – с казачками холостыми под плетнём, под вишнями покатаешься. И на пятом десятке ничего-о, даже на пятом особенно. Свои казачки, родные, и земля родная и трава.
– Так и внятно мне: что деревня думает? и как понимает город? Живу в станице – всё петербургское как забываю, чувствую себя только дончаком. И всё в мире видится: как это для Дона одного будет – хорошо или плохо? А возвращаюсь в Петербург, и с первых же часов, с первых редакционных встреч или в Горном институте, где я библиотекарем, и квартирую у земляка, – опять вразумляюсь, расширяется обзор опять до России, и уже странно, что три дня назад я шире Дона не видел и знать не хотел. Из России глядя, Дон – как шалопутный сынок. А с Дона Дон – как и не Россия.
– Как так, Дон – не Россия?!
– Странно?
Как так, Дон или какая другая река может возомнить себя не Россией? Да не то что Дон, а даже клинышек вот этот между Доном и Медведицей, пусть неудачлив, неплодороден, а тоже особлив.
Другая какая река не может, а Дон вот – может. Песни свои, сказанья свои. И степь особо пахнет. Нет, неверно выразил, что оба взгляда понимает одинаково:
– Когда меня в Седьмом году лишили Дона, это горше всего пришлось. Тамбов – далеко ли? а как в ссылке.
Конечно, в стране с развитым цельным сознанием отечества быть бы так не должно – каждая река отдельно. А вот у нас…
– Чуть в Пятые годы заколебалось – и сразу это в грудях поднялось. И того же Филиппа фотография у меня есть: “За автономию донских казаков лягут наши головы!”.
Нет, не понимает полковник, чуть не смеётся.
– Мы вот ваше вино допьём, это да. Хватит. Прямо с Дона едете – и земляку не довезёте.
– Да я не прямо. Я ещё по дороге… заезжал…
Пристукивание вагонное сближает со случайным человеком, вчера и завтра чужим, а сегодня как будто в чём-то и свояком. Подрагивающий этот переместный домик на колёсах освобождает от связей дисциплинарных, служебных, партийных, семейных, отъединяет даже от весёлого кондуктора, от пассажиров, невидимо проходящих за толстым зернистым стеклом двери. И оставляет доверчиво их только друг другу.
Можно сказать, можно и миновать. Что эти подробности спутнику? – а почему-то сладко открыться: в Козлове сошёл с ростовского поезда, вещи сдал, а сам… А сам! – помолодев на двадцать лет, с колотящимся…
– …в Тамбов.
Так они и сейчас сидели, так ехали: Воротынцев – быстрей вперёд, лицом к завтрашнему Петербургу, Ковынёв – ещё бы задержаться, лицом ко вчерашнему Тамбову.
Тамбов! Даже только вслух назвать – удовольствие, радость губам, как имя той женщины. Город назвать – как будто её саму: Зина Алтайская!
17
Весь этот перешаг – от надоевшего безнадёжного жребия провинциального гимназического учителя к писателю, члену редакции столичного толстого журнала, Ковынёв совершал именно в Тамбове: приехал изгнанником с Дона, уехал признанником в столицу. И в Тамбове именно, сам долго не поняв, оставил… Сколько их за партами пересидело, учениц, сколькие в пелеринках протягивали руку получить своё сочинение после проверки… И никогда за все годы, хотя рисовалось… А именно Алтайская… И под самый уже конец, неудачно так.
А вечер впереди – немеряный. Поезд идёт укачивающе ровно. Двое мужчин, уже не молодых, уже достаточно знающих жизнь, на твёрдый маленький столик четырьмя локтями опершись… Отчего б и не рассказать?
Да только откуда ж это рассказывать?
– Да, конечно, знакомств осталось много повсюду, разные там любви, как понимаете…
Думаешь одначе, выговариваешь иначе. Мужчина мужчине вслух, без усмешки, без небрежения и не скажешь… Разные там любви…
– …Но те все забылись, закрылись. А из-за этой девчушки… – на “девчушке”, кажется, голос его подвёл, – сейчас заезжал, да. Сто вёрст не околица.
Присмехнулся снисходительно.
А в груди – всё раскалённое, непродорное, отчего весь досюдошний разговор только был отвлечением. Уж отмахнуто было, уж быть его не должно ничего! – нет, слез в Козлове, пересел на тамбовский…
Не только полковнику армейскому, никому вообще этого рассказать нельзя, да ты сам десять раз это забыл, только теперь вспоминаешь: то коса, спустившаяся на тетрадь; то какой-то дутый чёртик из бумаги; то особенная закладочка именно в тетради по литературе; то – прыснула необъяснимо; то – с первой парты во все глаза за тобой, во все глаза. Дорого то, что это – к тебе самому, не к бывшему думцу, не к будущему писателю, ещё когда не замерли тамбовцы в ужасе и надежде, что Фёдор Ковынёв теперь их пропишет, – нет, к тому сорокалетнему, довольно опущенному гимназическому учителю.