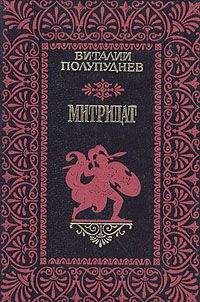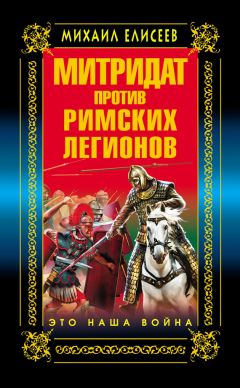ВАЛЕРИЙ ШУМИЛОВ - ЖИВОЙ МЕЧ, или Этюд о Счастье. Жизнь и смерть гражданина Сен-Жюста Часть I и II
12 декабря 1791 года в Якобинском клубе Робеспьер в продолжение своих антивоенных речей впервые выступил конкретно против главного вдохновителя революционной войны Бриссо. Эта речь «против войны» была для Максимилиана своеобразным «объявлением войны» Жиронде.
В клубе войны не хотели. Якобинцы и жирондисты, бывшие тогда членами клуба, заставили Робеспьера и Бриссо помириться на следующем же заседании. Помнится, они тогда даже поцеловались в знак примирения, – Максимилиан усмехнулся, – да, поцеловались… и тут же возобновили взаимные нападки друг на друга…
И подумать только: стоило ли два с половиной года терпеть насмешки и поношения в Учредительном собрании (за одобрение событий 5-6 октября Робеспьера освистали, за осуждение короля после его бегства в Варенн просто объявили «сумасшедшим»), добиться от народа добродетельной славы Неподкупного, чтобы увидеть, как появившиеся из провинциальной глухомани новые, никому не известные демагоги мгновенно добиваются успеха там, где ему потребовались годы!
Инар… Гюаде… Жансонне… И аббат Фоше… И философ Кондорсе… И едва ли не лучший оратор второй Ассамблеи Верньо… Все они стали врагами Робеспьера.
Повторялась старая история: в Законодательном собрании, как и прежде – в Учредительном, Робеспьер не имел никакой поддержки, кроме нескольких отдельных депутатов, к тому же еще и державшихся несколько особняком. Вроде безногого калеки Кутона, который всегда был себе на уме.
Но Максимилиан не смущался. Подумаешь, какие-то Инар и Гюаде! Даже лучший жирондистский оратор Верньо не стоил одного жеста покойного Мирабо. Ну, а Бриссо было так же далеко до Лафайета. Жансонне и Фоше? Совершенная мелочь!
Словом, как и предвидел Максимилиан, вторая Ассамблея стала лишь бледной тенью первой. И люди здесь собрались помельче, и идеи были пожиже. Учредительное собрание хотя бы выработало и приняло Конституцию. Законодательное собрание оказалось пустышкой. Теперь после его завершения это совершенно очевидно. Единственно, что сделало Собрание, – объявило войну Европе.
И тут подтвердилось второе предвидение Робеспьера – революционные войска, разгромленные во всех стычках с австрийцами и пруссаками, стремительно покатились назад от границы. Политика пропаганды «революционной войны» потерпела сокрушительный крах. Жирондистам надо было объясняться с народом. А объяснения не получались. В немалой степени из-за того, что люди теперь охотней слушали своих парижских вожаков (того же Дантона), чем лидеров Собрания.
Тогда Робеспьер, как пророк, попал на одну доску с Кассандрой – Маратом. И наряду с ним стал для жирондистов самой ненавистной фигурой. Но Максимилиану было не привыкать – насмешки и поношения со стороны коллег по Революции (со стороны явных врагов-роялистов их было куда меньше!) стали для него привычными.
Его недоброжелатели придирались буквально ко всякой мелочи: к его маленькому росту, к его тихому голосу, к его степенно-старомодным манерам, к его очкам, даже к цвету его одежды (из-за оливкового цвета лучшего робеспьеровского камзола времен Учредительного собрания кто-то бросил оскорбительную фразу о «зеленом Робеспьере»). За глаза его награждали уже и невесть какими болезнями и даже физическими недостатками! Говорили о его человеконенавистничестве. Наконец, стали осмеивать даже самые его принципы: из скромности выводили ханжество, из горячих высказываний – деловой расчет, ну а его мужскую добродетель готовы были превратить чуть ли не в мужскую неполноценность! Дескать, Неподкупный Максимилиан (да-да! – ему ставили в упрек даже его прозвище) потому и неподкупен, потому что неспособен ощущать обычные земные радости из-за каких-то там своих недостатков, и физических, и моральных… Так сказать, Неподкупный монстр, моральное чудовище. Одним словом, полная нелепица…
Собственно, все эти россказни злопыхателей Робеспьера о его мужской слабости поначалу только раздражали Максимилиана (особенно когда к ним стали присоединять еще старшую сестру Шарлотту, засидевшуюся в старых девах). И откуда только они могли знать о госпоже Дезортис из Арраса, с которой он играл вместе на клавесине;
о каких-то других юношеских привязанностях Робеспьера времен коллежа Луи-ле-Гран, о которых он и сам позабыл; даже о какой-то «невесте Робеспьерa», из-за несчастной любви к которой он будто бы и поклялся больше никогда не иметь дело с женщинами и из-за нее же пошел в политику; о жене его лучшего друга Камилла Демулена Люсиль Дюплесси, к которой он будто бы испытывал явную симпатию и очень не хотел отдавать другу, но Люсиль степенности Максимилиана предпочла взбалмошность Камилла; об Адель Дюплесси, младшей сестре Люсиль, так на нее похожей, которую будто бы предназначали ему в жены, но помолвка с которой не сложилась у Максимилиана из-за любви к старшей сестре; наконец, о дочери хозяина дома, где он жил, – Элеоноре Дюпле, которую молва окончательно прозвала «невестой Робеспьера»?
Подумав, Робеспьер счел, что, наверное, для него это будет действительно удачный выбор – семейство Дюпле. Пришлось «согласиться» со слухами, чтобы окончательно эти слухи прекратить. Для этого Максимилиан несколько раз под ручку прогулялся со старшей девицей Дюпле по улице Сент-Оноре и далее – по Елисейским полям,
а потом даже полуофициально объявил Элеонору своей невестой. После этого слухи на эту тему уменьшились. Зато возросли другие.
В своей клевете недавние союзники-жирондисты превзошли бывших лидеров Первой Конституанты. Те все-таки были идеалистами. А эти? Что они только не плели о Робеспьере, когда поняли (и поняли правильно!), что он не будет идти в фарватере их политики, и когда решили свести на «нет» его политическое влияние!
И то, что он, Максимилиан Робеспьер, так кичившийся своей «добродетелью», был креатурой порочного Мирабо (этот факт вообще-то перечеркивала фраза самого продажного графа, сказанная им будто бы о Робеспьере: «Он пойдет далеко, потому что верит всему тому, что говорит!», но сам Максимилиан считал для себя оскорбительным, что люди придавали вообще столь большое значение оценке какого-то негодяя);
и то, что он, несмотря на все свои революционные речи, по духу оставался все тем же старорежимным юристом-законником, приверженцем сухой буквы закона (сколько шуток было отпущено по поводу невозможности для Робеспьера преступить какой-либо уже принятый декрет!), и не только оставался, но даже и выглядел им, – в парике,
в чулках, в туфлях с пряжками, то есть всем внешним видом подражал своим ненавистным, но и любимым аристократам, – и то! – разве не был он одно время завсегдатаем «аристократического» салона бывшей графини де Шалабр, где собирались отнюдь не «левые», а скорее, весьма умеренные революционные лидеры (дело объяснялось очень просто – старуха всячески обхаживала добродетельного депутата от народа, и Робеспьер как должное принимал ее льстивые речи, – что с того, что в них было немало лицемерия, – сама того не понимая, старуха графиня говорила чистую правду!);
и то, что свой «монархизм» он подтвердил в Вареннском кризисе, так как вел себя весьма двусмысленно: то поддерживал петицию кордельеров за свержение монархии, то выступал против республиканцев, называя их «донкихотами рода человеческого» (тогда Максимилиан ошибочно полагал, что стремление к республике приведет, в конце концов, к анархии, и собственно он не уверен в обратном до сих пор);
и то, что после расстрела на Марсовом поле он просто спрятался (будто бы из «природной» трусости!), а когда появился, начал издавать газету под опять же двусмысленным названием – «Защитник конституции», то есть объявлял себя защитником конституционной монархии и, значит, противником Республики, ибо одно исключало другое (единственное, что огорчало Робеспьера при упоминании о его несчастной газете, это не ее название, а то, что он показал себя никаким газетчиком, – и тени популярности газет Марата, Демулена и даже Бриссо не пало на «Защитника конституции», –
не выручило и громкое имя редактора, и Максимилиан зарекся с тех пор связываться с непонятной ему журналистикой);
и то, что к восставшему народу он примкнул только из честолюбия и что он всегда любил не Революцию, а себя в Революции, – и каких еще доказательств требовалось этому утверждению, если его собственный рабочий кабинет в доме Дюпле был украшен портретными и скульптурными изображениями самого Максимилиана! (но не Робеспьер же, в конце концов, обставлял ими свой кабинет, – так хотелось его гостеприимным хозяевам);
и то, что в действительности ему нет дела ни до революции, ни до революционеров, потому что как можно верить вождю революции, который однажды просто швырнул себе под ноги красный колпак санкюлота, сорвав его с чьей-то головы (нелепый случай, происшедший с Робеспьером, но совершенно перевранный монархической молвой: фригийский «колпак свободы» Максимилиан ни у кого с головы не срывал, – это постарался какой-то излишне ретивый санкюлот из его же почитателей, – подскочил к Робеспьеру в Якобинском клубе и попытался напялить на его пудренный, тщательно выглаженный парик этот дурацкий колпак (к тому же вроде еще и не очень чистый!), и естественно, что не привыкший к такой фамильярной грубости бывший аррасский адвокат сорвал и бросил его себе под ноги, притом, может быть, даже и зря, – уж очень нехорошие пошли слухи);