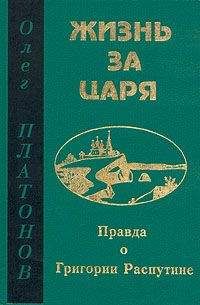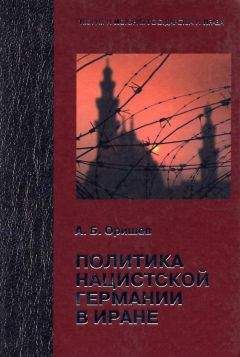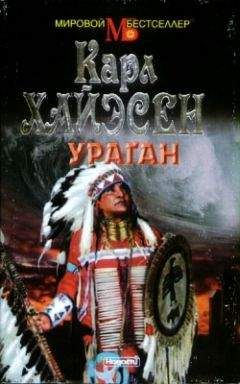Теодор Парницкий - Аэций, последний римлянин
Но она никогда не думала, что это любовное наслаждение… это нечистое упоение может быть таким, какое она познала после замужества с Аэцием. С той поры для Пелагии началась другая, новая, совсем непохожая на прежнюю жизнь… Она была вся полна любви и никогда не была сыта ею. Собственное тело показалось ей каким-то совсем другим, чем раньше… За короткое время она познала все заботы, радости и тайны, связанные со столь важным (а раньше казалось: бессмысленным) делом, как холить его, делать еще красивее, подчеркивать те его прелести, которые в первую очередь вызывают в любимом муже такой дорогой ей и столь желанный любовный трепет… Начали выпадать такие дни, которые существовали только для того, чтобы, следя за ходом проходящих часов, с наслаждением мечтать о приближающейся ночи. Терзаемая любовным голодом или, наоборот, пресыщенная, ослабленная избытком наслаждения, она все больше времени проводила абсолютно бездеятельно; при этом все больше времени отнимали у нее купания, умащения, причесывание, одевание, так что минуты, которые она могла посвятить набожным размышлениям, беседам с диакониссами, а прежде всего дочери и ее воспитанию, с каждым днем становились все короче. И ей не казалось, что она проявляет нерадивость в делах веры: ежедневно она уделяла молитве столько же времени, что и раньше… пожертвовала много денег на строительство нового арианского храма и в каждый седьмой день, в день господний, отправлялась в лектике в церковь святой Агаты. Но на самом деле она понимала, что уже не имеет права именоваться избранным сосудом святой чистоты; хотя разве мало набожных, ревностных и действительно богобоязненных матрон, что каждый год дарят своих мужей новым младенцем?! Угрызения, которые она испытывала несколько первых недель, совершенно исчезли в тот день, когда она как откровение выслушала в церкви Агаты уже хорошо ей известную, но никогда дотоле не наводившую на глубокие размышления главу о свадебном пире в Кане Галилейской. Она чувствовала себя даже более одухотворенной, чем раньше: ее верности арианскому учению и воспитанию дочери в его духе, казалось бы, ничто со стороны Аэция не грозит. Правда, в Равенне — как донес ей всегда дружески настроенный единоверец Сигизвульт — сенаторы Басс, Максим и Секст Петроний якобы предостерегли патриция, что Плацидия намеревается использовать против него новое оружие — неортодоксальность его жены, а жена комеса Кассиодора намеренно не возвращается в Рим, чтобы избегнуть необходимости появиться у еретички; но Аэций отвечал на это с улыбкой и злостью одновременно: «Оставьте меня в покое! Это женские дела! У вас нет дел поважнее?..»
Отношение его к ее арианской вере никогда не было ей приятно, но не вызывало и опасений: никогда он с нею прямо об этом не говорил, лишь посмеивался над святым для нее оборванцем Арием и наполовину серьезно грозил, что вышвырнет из дому набожных диаконисс. Так же как Бонифаций, он с издевкой вспоминал о знаменитом диспуте Максимина с Августином, но в противоположность Бонифацию как будто отнюдь не страдал от того, что его с женой разделяет непроходимая пропасть — пропасть проклятия, которому соборы предали учение оборванца Ария и его приверженцев…
Чем для нее стал Аэций — не только для тела и любовных утех, но и для всего ее существа, для всех ее мыслей и всех закоулков души — она поняла, когда он выехал на целых восемнадцать дней в Равенну. Сначала она думала, что время пролетит быстро и она сможет посвятить его дочери и проверить, строго ли в соответствии с известным письмом епископа Максимина воспитывают дочку няньки, учительницы и диакониссы. Действительно с неподдельной радостью проводила она целые дни в обществе девочки, играла с нею и приказывала носить по городу в лектике, показывая ребенку все достопримечательности Рима, а главным образом многочисленные изваяния отчима. Но длилось это не больше четырех дней… потом Пелагию охватила такая тоска, что с рассвета до сумерек бродила она по всем комнатам мрачной, унылой тенью, ночами же не могла сомкнуть глаз, плакала или в муках ворочалась с боку на бок на мягкой, жаркой постели, чаще же всего вскакивала с ложа и снова скиталась призраком при лунном свете, напрасно надеясь, что, скользя босыми ногами по холодным плитам пола, охладит сжигающий ее жар…
Но вот наконец ей сказали, что он приехал. С радостным криком вскочила она с бортика бассейна, где сидела, с трудом заставляя себя ловить золотых рыбок, к которым девочка непременно хотела прикоснуться пальчиком. Но почему же он не идет в гинекей?.. Оскорбленная и раздраженная, Пелагия решила, что не будет пытаться увидеть его, пока он сам не придет к ней. Но когда опустились сумерки, она быстрым, беспокойным и радостным шагом бросилась к таблину[65] где он сидел в одиночестве с самого прандиума[66].
Башмаки ее громко стучали по плитам, но Аэций и головы не поднял, когда она вошла в таблин. Он сидел, низко склонившись над бронзовым столиком, уткнув лицо в широкие, сверкающие от колец ладони. И только когда она робко коснулась его пальцами, он неохотно повернул мрачное, опухшее лицо.
Вопрос замер на губах Пелагии. В глазах Аэция она увидела слезы (Бонифация она никогда не видела плачущим!), нижняя губа тряслась. Почувствовав на себе ее взгляд, он тут же овладел собой; губы сжались, слезы исчезли из глаз, будто их там никогда и не было… он выпрямился и совершенно спокойным, хотя и глухим голосом ответил на ее испуганный, вопрошающий взгляд:
— Умер король Ругила… мой самый большой друг… якобы молния его убила во Фракии… Глупец этот император Феодосий (Пелагия побледнела от страха: такое кощунство!..) — пишет, что это кара божья… За что? За то что вторгся в императорские владения!.. Этим Феодосиям действительно кажется, что богу только и дела, что до их владений, до их величия! А, да что об этом с женщиной говорить!.. — И он пренебрежительно махнул рукой.
Через минуту она уже сидела у него на коленях. Гибкие руки заботливо обхватили его массивную, твердую, точно из бронзы, шею. Она старалась утешить его, как умела. Хотя о Ругиле совершенно ничего не знала, но задавала вопросы так, будто умер кто-то очень ей близкий. Когда-то она слышала от Бонифация, что это самый дикий и жестокий из всех варварских владык, предводитель скорее злых демонов, чем людей, наводящий ужас в обеих империях, — и все же с готовностью поддакивала, когда Аэций стал прославлять мудрость, монаршьи и воинские достоинства своего самого большого, как он упорно повторял, друга. Неутомимо и ни на минуту не переставая пылать любопытством, она выслушала длившийся несколько часов рассказ о жизни и деяниях Ругилы, о его братьях и племянниках, о многочисленных женах и наложницах, а прежде всего о дружбе, которой он дарил римского заложника, а потом изгнанника. Казалось, что раньше Аэций устанет говорить, чем она слушать. Наконец, когда он кончил, они вместе поужинали и пошли на ложе. Занявшийся день они встретили так же, как провели всю ночь: без сна. Но когда Аэций встал, собираясь поскорее отправиться в цирк на состязание прославленного римского зеленого квадригария со знаменитым гостем из Антиохии, облаченным в голубой цвет, — Пелагия, глядя на его невысокую, но великолепно сложенную фигуру, почувствовала сожаление, что уже утро. Она сказала ему это. Он рассмеялся и на миг задумался. Потом взглянул на жену с загадочной улыбкой, которая удивила ее, но ничуть не встревожила, и сказал:
— Я лишаюсь из-за тебя великолепнейших ристалищ. Но останусь, если ты хочешь. Только с одним условием, что и ты сегодня не пойдешь в церковь святой Агаты.
Был господний день. Но это был и первый день после почти трехнедельной разлуки с мужем. Да, но ведь уже два года такого не было, чтобы она в первый день недели не пошла в церковь! Она закрыла лицо руками и быстро кинула:
— Останусь.
Тогда Аэций голым направился к двери и на языке гуннов крикнул:
— Траустила! Пойдешь к Кассиодору и скажешь, чтобы префект города оповестил в цирке, что состязание переносится на завтра.
5— Ты опять была в церкви Агаты?
Под Пелагией подкосились ноги. Дрожащими руками закрыла она глаза. Она не могла смотреть на Аэция: никогда еще не видала она этого столь дорогого ей лица до неузнаваемости искаженным гримасой страшного гнева.
— Была, спрашиваю?..
— Была, — шепнула она, удивленная и испуганная.
Он тут же успокоился.
— Хорошо, что говоришь правду. Терпеть не могу женских уверток. Избавишься от унижения: не будут за каждым твоим шагом следить платные двуногие ищейки. На этот раз я тебя прощаю. Но больше в церковь святой Агаты ты ходить не будешь.
С минуту она смотрела на него непонимающим взглядом. Но тут же гневным огнем сверкнули черные африканские глаза, судорожно сжались кулаки, темный лоб прорезали глубокие вертикальные морщинки, а в уголках рта заиграла злорадная улыбка, та самая, которая столько раз торжествовала над побежденным Бонифацием.