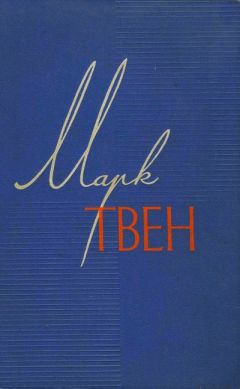Владимир Короткевич - Колосья под серпом твоим
– Это названия такие.
– Названия чего? Ну, "Великая Русь" – это понятно. Империя действительно большая.
– Не туда гнешь, – сказал старик. – Великая Русь – это все, что от истоков Днепра и Сожа и аж до восточного места, до пустынь, до гор… Малая…
– Это еще что?
– Живет на юге такой народ. Это там, где Киев, и Полтава, и Миргород. Когда я ездил до Киева с императрицей, то насмотрелся. Народ интересный, на наш взгляд непривычный, но хороший.
– А "Белая" – это что?
– А это Приднепровье, Полесье, Минщина – все, аж по самое Подляшье.
Алесь покусывал перо.
– Что же, тогда выходит, что мы жители Белой Руси?
– Еще чего! Мы приднепровцы. А слово это – "Белая Русь" – окончательно устаревшее, очень давнее слово, которое никто не помнит. Сейчас оно и вообще под запретом, много лет нигде ты его не встретишь.
– Ну, а почему же так?
– А потому, что никому до этого нет дела. О другом надо думать.
– О чем?
– Ну хотя б о том, что приднепровские дворяне стали холуями, что нет больше в Приднепровье ни силы, ни ума, ни чести. Что мы вымираем.
– Что ты, батюшка! – ужаснулась Глебовна. – Разве нам есть нечего? Да спаси господи!
– Помолчи минутку,- мягко сказал старый князь. – Вымираем, Алесь. Это правда. Не дай бог только дожить. Ни тебе, моему внуку, ни твоему внуку. Возьми ты Могилев. Был богатый большой город. Возьми Полоцк… Загорск стал большой деревней, Друцк – маленькой и нищенской. В Суходоле два года тому назад было мужчин две тысячи без двухсот, женщин – полторы тысячи да сотня. Первый признак! И в этом году родилось сто пятьдесят девять человек, а умерло двести семьдесят семь. На сто восемнадцать человек стало меньше. И так почти каждый год.
Пошевелил щипцами дрова. Сноп искр рванулся вверх.
Алесь молчал, глядя на мигающее пламя. Он тяжело, не по-детски, думал. Отблески пламени трепетали на его лице, и потому казалось, что оно густо залито кровью.
– Я не понимаю, – сказал он наконец глухим голосом, – не понимаю, почему так говорил в усыпальнице отец: "У других есть имя – у нас нет ничего, кроме могил"? – Узкая его рука сломала перо. – Да нет, нет. Есть имя. Не одни могилы. Имя тоже есть, забытое, древнее. Однако же есть.
– Возможно, – пожал плечами дед. – Только все это не то. Иди лучше спать, внучек. Поздно тебе здесь сидеть и думать.
Вставая, Алесь с каким-то удивительным чувством погладил пальцами лист титула. Этот печальный, никому не нужный лист с длинной надписью.
* * *
…Я спускался с вершины Святой горы. Было поздно, и солнце давно село за горы. Ломая дубняк, ступая на жесткие подушки камнеломки, я спускался все ниже и ниже, туда, где над бухтой горели невероятно синие огни.
Пошла сухая горная трава. Справа от меня, на обрыве, возносился в небо Чертов Палец.
Я выбрался на дорогу и быстро зашагал вниз.
Ползли по склонам серые пятна, и приглушенно долетало оттуда "глок-глок" – колокольчики овечьих стад.
Теперь я спустился низко, и вокруг были одни морщинистые горы.
Что-то тусклое появилось рядом со мной – слабая еще, невыразительная на сером тень. Моя тень. И я подумал, какие они были бедные, несмотря на богатство, те, что ожили под моим пером. Как они были достойны сожаления! Как тень.
А тень появилась и теперь все густела и густела, потому что луна, восходя над миром, делалась все ярче и наливалась светом.
В ложбине пустовали каменные коробки каких-то низких строений, заросших шиповником и колючками. И это было как на Марсе, где пески заносят развалины старых городов. А луна рождала в строениях тени и делала морщинистые горы совсем голубыми.
И вдруг огромное счастье родилось в сердце. Я жил, и я шел среди руин, под этой голубой луной, я продирался сквозь колючки, что аж скрипели от мертвой сухости. И я шел навстречу тому, о чем знал в этой теснине один я. Только один.
Я миновал теснину, и после аромата сухой земли, колючек и полыни теплый, роскошный, безмерный аромат моря, его бесконечный шум заполнил мне уши и сердце.
Море горело лунным огнем меж сухих скал.
…И все эти дни и ночи я жил им, даже когда не видел его.
Жил в скалах, жил в степях, жил среди теснин.
Иногда, проснувшись ночью и лежа бессонно с раскрытыми глазами, или поздним вечером, сидя за своим столом, я вздрагивал от неожиданного ощущения холода и дикого осеннего одиночества.
Потому что за окнами стоял глухой шум, какой бывает у нас лишь поздней осенью, когда порывы ветра бегут по голым вершинам неуютных деревьев.
А потом мне сразу делалось тепло, и я вспоминал и улыбался сам себе в темноте, потому что это было – Море!
XXI
Рождество украсил свежий и пушистый снег. Снег был на всем – на заборах, на стрехах, на деревьях, на тулупе ночного сторожа и в ведрах с водой, только принесенных от колодца в хату.
Земля помолодела.
Майка Раубич, проснувшись утром в сочельник, сразу поняла, что на дворе снег, – так светло было в комнате. И она вскочила с кровати, набросив одеяло на подушку, чтоб не ушло тепло, и босиком подбежала к окну.
За окном было белое и черное: снег и ветви деревьев.
Ноги немножко зябли на полу, и девочка прыгнула снова в постель, которая не успела благодаря ее хитрости остыть, и аж засмеялась от счастья, что тепло и что на дворе снег.
А потом задумалась, не зная, приснилось ей то, что она видела вчера вечером, или было на самом деле.
Накануне нянька Тэкля пугала ее, что вот приближается рождество и теперь как раз раздолье для разных нечистиков, которые торопятся перед рождением господа нахватать себе как можно больше озорных и непослушных девочек.
– Лазник [80] вось. Як во-озьмет за бок, ды я-ак потя-янет на полок, ды як начнет щекотать, тут ужо молись як хочешь – не поможет. Потому як не слушалась родителей и няньки Тэкли.
– А какой он, Лазник?
– Страшный,- отрезала Тэкля. – Одежа у него из веников, вместо усов – два лазенных опарыша. А сам весь курится паром. И горячий такой, щекотливый.
– Не верю я тебе, бабуля. Вон говорили на празднике огня [81], что Паляндра страшная. А то был Тодорка-водовоз. И смешил детей. И совсем он не страшный.
– А вот поглядишь, поглядишь! – пугала старуха.
И тогда Майка решила посмотреть. После ужина она, вместо того чтоб идти в библиотеку, набросила шубку и крадучись пошла мрачным парком к бане. Она не боялась, что ей помешают: отец всегда разрешал ей делать, что она хочет.
Продутый насквозь ветром, звонкий от мороза парк, редкие холодные звезды в ветвях. Скрипнула калитка в частоколе, высоком, страшном в темноте, с лошадиными, неясно белеющими черепами на нем.
Она в самом деле увидела Лазника. В бане горел желтый блеклый огонек, и девочка, прижавшись снаружи к восьмигранникам толстого пузырчатого стекла в свинцовой раме, увидела предбанник, похожий на пещеру, лохматый от сотен веников, а на скамеечке – его.
Он был похож и непохож. Веники были не на нем, а вокруг. Видимо, разделся и сбросил их. Но даже без веников он был страшен, хотя совсем не курился: такой черноволосый, темный и неясный через стекло.
Дрожа от страха, она расплющила нос, прижавшись к стеклу, и круглыми от ужаса глазами следила за ним.
Лазник, видимо, что-то услышал. Он поднял глаза и посмотрел на окошко.
Она скатилась вниз по ступенькам с галерейки и припустилась бежать так, как не бегала никогда в жизни. Чуть не потеряла в кустах шубейку, исцарапала руки в живой изгороди, больно ударилась ногой о камень. А теперь вот лежала и думала, было все это или нет.
Истопник грохнул в коридоре дрова на железный лист возле печки, и она представила, как хорошо эти дрова пахнут – свежестью, ароматом морозного дерева и подтаявшим снежком.
Ярош Раубич, войдя в комнату, тоже принес запах снега и чистоты. Присел на край кровати.
– Что ж ты лежишь, доченька? Сороки снег принесли.
– Я еще капельку-капельку, – сказала она.
Лицо Раубича, если на него не смотрел никто чужой, было совсем не желчно. И в глазах не было той пытливости, которая обычно смущала всех. Была в них даже какая-то вина, нечто вроде вечного осознания какой-то погрешности в том, что он делает.
Майка играла браслетом, вертя его на отцовском запястье.
– Шиповник, у-у, как колется… Курган, у-у, какой высокий… А вот "бу-у" – страшный рогатый бык. Гам – и съест.
– Бык? Это зубр.
– А зубр разве не бык?
– Пусть так. Однако же зубры никого не едят… Однажды шляхтюк в сильный мороз ехал на санях, полных сена, пущей. Зубр подошел, осторожно подцепил сонного шляхтюка на рога и положил его на снег.
– Неправда, папа. А кони?
– А кони думали, что это корова. Кони ведь не боятся коров.
Майка засмеялась.
– А потом зубр пошел за санями и ел сено, пока не съел все. А шляхтюк ругался: "Корова ты гадкая! Бык ты холерный! Чтоб тебя так волки ели, как ты мое сено съел, чтоб тебя…"