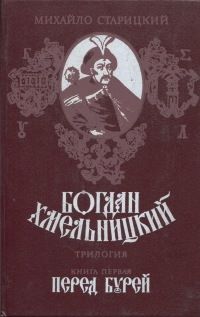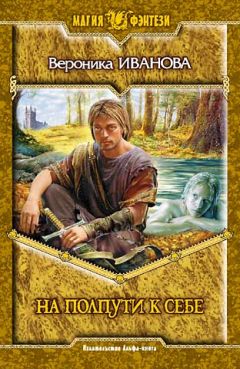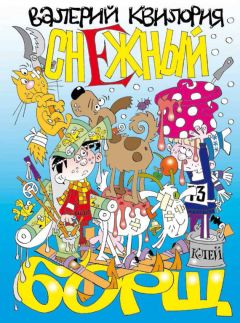Валентин Рыбин - Знойная параллель
— Здравствуй, Марат. Давно ждешь? Ну, у нас все в порядке. Я взяла билеты еще днем.
Мне неловко, но приходится объяснять, что сегодня передача, в которой я участвую, и вообще впервые буду выступать по радио. Тоня понимает, как мне хочется услышать самого себя, тем более первый раз в жизни, да еще в Москве.
— В театр сходим в следующий раз. Никаких «Пиковых дам» сегодня. Сегодня только Марат Природин. Я сейчас...
Она идет к кассе и тут же возвращается.
— Я сдала билеты.
— Теперь давай решим, где мне найти приемник.
— О боже, Марат! Но у меня же! Неужели ты и теперь еще станешь отказываться? У нас прекрасный приемник. Мы придем, я заварю тебе зеленый чай, и мы будем слушать. Согласен?
Мы пришли к ней примерно около десяти. Звоним. Дверь открывает ее супруг, Кияшко.
— Лал? — растерянно говорит Тоня.— Ты что — уже приехал?
— Приехал... А кто это с тобой?
Тоня запнулась, но лишь на какое-то мгновенье:
— Это Марат... Мы пришли послушать его передачу. Заходи, Марат. Вот тут вешалка. Дай пальто. Шапку давай.
— Странно, странно,— говорит Кияшко и обращается в глубину коридора: — Аделаида Михайловна, вам не кажется странным поведение вашей дочери?
— Что ж тут странного? — спокойно отзывается мать Тони.— К дочери приехал друг юности. Проходи, Марат.
Я вхожу в гостиную. Сажусь. Кияшко следует за мной. Наверно, я ему кажусь самым наглым человеком, какого он когда-либо видел. На лице у него недоумение и отчаяние, и протест. Одно сменяется другим.
— Почему вы преследуете мою жену? — спрашивает он сухо.
— Лал, пожалуйста, без грубостей! — тут же вступается за меня Тоня.— Никто никого не преследует. Просто наступило время сказать тебе: мы с Маратом по-прежнему любим друг друга.
Кияшко остолбенел. Стоит молча и только улыбается.
— Но это же безнравственно,— наконец, выговаривает он, вкладывая в это слово всю боль души.—Я уехал только на неделю и ты влюбляешься в другого.
— Я люблю его семь лет, и не притворяйся, что не знаешь,— отзывается Тоня.
— Семь лет? — сокрушенно переспрашивает он и опять наступает: — Пусть даже семь. Но он-то тебя любит? Разве он тебя любит?! — Кияшко словно прорвало: начинает ходить взад-вперед по гостиной, и доводы его — «железные».— Если он любит тебя, то почему же он не подал тебе руку помощи, когда ты со своей мамой жила в нищете?
— А вы воспользовались и на чужом несчастье решили построить свое счастье,— парирую я. В конце концов, не сидеть же мне, сложа руки, и слушать, как этот ловкач бесстыдно искажает прошлое.
— Я вытянул ее и мать из нужды,— чеканит он каждое слово.— Я помог им встать на ноги, и вот за это мне такая неблагодарность? Подлая измена, если хотите.
— Лал, ну о чем ты говоришь? — возмущается Тоня.— О какой измене речь? Изменой называется поступок, когда жена, изменив мужу, вновь возвращается к нему. Но я не собираюсь возвращаться к тебе!
— О чем ты! О чем! — жалобно взывает Лал.—Я же тебя из конуры вытянул. Ты плесневела в грязной каморке на каком-то Куткудуке. У вас даже постели порядочной не было. Топчаны голые...
— Эх, Кияшко, Кияшко,— вздыхает Аделаида Михайловна.— Ты прекрасно знаешь, кому ты обязан в том, что моя дочь стала твоей женой. Я, больная и обессилевшая, пошла на последнее. Это я толкнула свое чадо в твои руки...
— Товарищ Кияшко,— говорю я.— Давайте спокойно, без скандала, разберемся...
— Что ж, давайте разберемся,— соглашается он.
— Давайте начнем с самой сути. Итак, в тридцать седьмом году отец этого маленького семейства был репрессирован. Испугавшись ареста, он бежал с женой и дочерью в Хурангизские горы в надежде, что там его не найдут. Его нашли, арестовали, а жена и дочь остались в одиночестве. «Боже, какая несправедливость!» — воскликнули вы, увидев красивую девушку.—Такая красота и вдруг — какое-то студенческое общежитие, какой-то Куткудукский поселок и какой-то жалкий солдат, у которого за душой — ни гроша. И вот вы, Кияшко, берете на себя миссию благотворителя, и беззастенчиво топчете любовь другого. Вы же знали, что я люблю Тоню и она меня любит! Но вы домогаетесь ее любви и даже преуспеваете.
— Марат, миленький, не надо. Я никогда не любила его. И он прекрасно знал, что это была лишь благодарность за все сделанное им.
— Теперь, товарищ Кияшко,— продолжаю я.— Вы, узнав откуда-то о возможной амнистии, беретесь представить дело так, что и отец Тони, если он вернется, то заслуга ваша. Вы — ловкач, Кияшко. Вы даже тут пытаетесь гуманность общества поставить себе на службу. Но хотел бы я знать: не вы ли, и не вам ли подобные строчили клеветнические доносы в тридцать седьмом?!
— Прекратите! — кричит он.— И — вон отсюда!
— Не горячись, Лал,— говорит Тоня.— Мы сейчас вместе уйдем. Завтра я подам на развод...
— Подавай... Уходи,— вконец ожесточается он.— Но уходя, не забудь, что тут нет ничего твоего. Все нажито мной одним. Все!
— Вот именно,— подтверждаю я.— И вещи, и люди. Все.
— Щенок,— обзывает он меня и, хлопая дверью, уходит в смежную с гостиной комнату.
Тоня с матерью собирают чемодан. Я стою в коридоре, жду их. И мы уходим.
11.
Через неделю я улетел. С Тоней простился дома у ее мамы. Тоня поселилась у нее и, наверное, еще долго придется ей жить там. Сначала, сгоряча, я чуть было не купил билет в Ашхабад и ей. Но потом, когда мы поостыли, то решили, что делать пока этого не надо. Прежде всего — развод. Тоня подала заявление в суд и ждала повестки. Меня забеспокоило, как же она будет жить, не работая? Я тут же отдал ей тысячу рублей, которые мне дала мама, чтобы купил ей боты на меху. Но боты я не нашел, деньги остались, и вот они пригодились теперь. По моим расчетам, после приезда в Ашхабад, я опять должен выехать в Мары, поэтому мы условились с Тоней — она будет писать Оле, но с пометкой, что письмо адресовано мне...
И вот опять я в Ашхабаде. Проснулся утром и сразу вспомнил Тоню. Дни, проведенные в Москве, кажутся мне голубым волшебным сном. Только от той мещанской сценки с размолвкой отдает горечью. Как бы этот Лал не наделал глупостей! Старые холостяки на все способны. Наглость и натиск — вот их святая истина.
Вечером я рассказал отцу и маме во всех подробностях о Москве и Реутове. Только о Тоне ни слова. Любовь у нас с ней очень сложная: поймут ли родители меня? А вдруг вмешаются и скажут свое «нет!» Тогда произойдет страшное. От Тони я не откажусь, но в моих добрых взаимоотношениях с отцом и мамой появится трещина. Нет, пока что рано говорить им о Тоне. Рано!
Мама, взволнованная моими рассказами о встрече с дедом и бабушкой, об Улыбиных, сама не своя. «Поеду,— говорит,— этим же летом к ним. Одна уеду, если сам не захочет».
Утром прихожу в редакцию. На улице дождь. Почти все наши — на месте. Балашов здоровается, не скрывая зависти.
— Эх, поскорее бы развязаться с университетом! Я же все свое творческое горение вкладываю в учебу, а на стихи ничего не остается! Если б не университет, могли бы и меня послать в Москву! Как ты, Марат, допускаешь такую мысль?
— А почему же нет? Ты человек пробивной... Мог бы, конечно, блеснуть.
— Завидую тебе и некоторым другим,— продолжает он.— Всю осень ты на канале пробыл, сколько зарисовок выдал! И опять тебе везет,— продолжает, глядя на меня.— Едешь в составе взаимопроверочной делегации в Таджикистан. Редактор назвал твою кандидатуру. Зайдешь к нему.
Ребята, слушая наш разговор, перебивают, подначивают, но в общем-то все рады за меня. Москва, Всесоюзное совещание — это все-таки здорово. А как я читал стихи! Все, оказывается, слышали.
Сотрудникам дарю по авторучке. Пусть простят меня коллеги за однообразие подарков, но увы — не было времени ходить по магазинам.
— Старик, дабы уважить тебя, я выдам этой ручкой опус о твоем друге Ковусе,— говорит Юра.— Замечательный парень Ковус. Мы ездили к нему. Делаем целую полосу о канале. Балашов побывал на трассе со стороны Керков, а я — отсюда. Будет довольно полное представление, по крайней мере, в смысле географии.
— Эдик знал, куда ехать,— отмечаю я и смотрю на склонившегося над белым листом Балашова.— Там, со стороны Головного, озер множество. Не зря же он объявил танкистам: канал — это и фламинго. Эдик, клянусь, дарю тебе вот эту с платиновым пером авторучку, если скажешь — почему у фламинго розовые ноги?
— Не мешай работать, старик,— пыхтит Эдик.— У тебя все еще московское настроение, а нам надо сегодня сдать полосу.
— Не скажешь даже за столь прекрасный подарок?
— Это пока секрет, старик... Когда-нибудь узнаешь.
— Юра, а стихи даете в полосу?
— Пока никто не написал. Если есть — давай.
— Хочешь восемь строк?
— А ну?
В минуту эту замер скрепер и оторвались все от дел,
когда над нами серый стрепет в осеннем небе просвистел.
Его встречали не картечью — махали шапками ему.
Он вестником был скорой встречи двух рек: Мургаба и Аму!
— Ну, как?