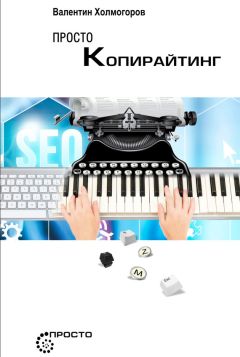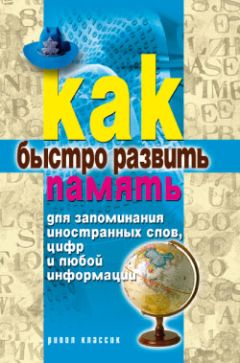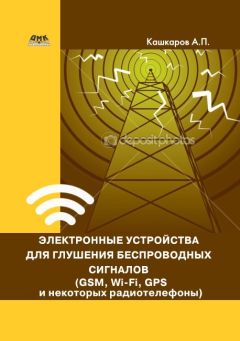Валентин Катаев - Кладбище в Скулянах
«Прибытием нашим вопреки желанию поляков сей город спасен от вторичного занятия неприятельского, то есть армии Наполеона».
«На сем пункте, задерживая набеги неприятельские, полк наш оставался несколько времени под командой генерала Решикалова 1-го, где в ноябре ночью, перейдя реку Буг, нашел я неприятельские посты в городе Грубешове. Тут были взяты в плен полковник Зубрицкий, несколько офицеров и множество нижних чинов».
(Речь, очевидно, идет о поляках, служивших в войсках Наполеона.)
«Повыше города, в лесу, я заметил, что немалое количество неприятельских войск бросилось на лед, чтобы переправиться через реку. Тотчас схватив неприятельские ружья со штыками и двух казаков Турчанинова 2-го полка, я поспешил к неприятельским войскам, которые; пришедши в робость, соединились в кучу, провалились и пошли под лед, а оставшиеся 12 человек я захватил в плен и представил генералу».
Этот подвиг тоже остался неизвестен высшему начальству, и награда опять пролетела мимо прадедушки, чего он не мог забыть до самой своей смерти в Скулянах, с чего я и начал эту мою книгу.
А что, не назвать ли ее семейной хроникой или даже романом-хроникой?
Надо подумать.
Будучи неожиданно переброшен со своим Нейшлотским полком с турецкого фронта на север, прадедушка, родившийся в Молдавии или на Украине, что мне в точности неизвестно, но, во всяком случае, привыкший к южной степной природе, к особому причерноморскому миру сухих новороссийских просторов, к скифским курганам, полыни, суховеям, к полосе Черного моря, которая сопровождала его во время турецкой кампании, к Дунаю, к быстрому Пруту, к Серету, где через сто лет пролилось столько русской крови, к очертаниям турецких крепостей, — вдруг попал на север, в густые хвойные леса левого фланга русской армии, которая уже приступила к окончательному разгрому наполеоновских дивизий.
Прадедушка опоздал к Бородину и пожару Москвы, к Тарутину, к Малоярославцу…
Когда он со своим Нейшлотским полком появился на театре военных действий Отечественной войны, то центр армии Наполеона, или так называемая Великая Армия, Grande Armée, был уже почти разгромлен и Наполеон начал свое ужасное отступление.
В ноябре наступили холода, речки замерзли, что дало возможность прадедушке потопить неприятельский отряд, провалившийся под лед: как бы некое преддверие Березины.
Через сто с лишним лет после прадедушки нечто подобное повторилось со мной с той лишь разницей, что я начал свою войну, попавши с юга на север, а закончил ее на юге, на Румынском фронте, в предгорьях Карпат, на походных носилках, с бедром, пробитым навылет осколком немецкой бризантной гранаты, а прадедушка начал свою войну на юге, потом попал на север и в конце концов получил под Гамбургом четырнадцать ранений. Если же к этому столетию прибавить еще лет шестьдесят до сего дня, когда я на старости лет взялся за свою семейную хронику, то получится лет полтораста, если не больше, цифра настолько почтенная, что ничего нет удивительного в том, что я принужден пренебречь всякой хронологией, а писать по завету Льва Толстого — «как вспомнится», или даже еще лучше по-своему — «как представится».
Сейчас, когда я пишу и переписываю эти строки, мне представляются глухие белорусские леса, куда я попал в крещенские морозы мальчишкой-вольноопределяющимся, в чем-то повторив молодость своих деда и прадеда.
Красота еще никогда не виданной мною русской северной природы, ее сверкающей зимы, запах смолистых елей, заваленных высокими сугробами, имеющих вид как бы одетых в тулупы, несказанно восхитили меня, я чувствовал себя в некотором сказочном царстве, и на поздней утренней заре, когда в апельсинном снизу, но все еще темном вверху небе гаснут последние звезды, а по мелколесью хрустально потрескивает двадцатиградусный мороз, и первые дымы встают столбами над трубами белорусских халуп, и в лиловом зените тает осколок ледяного месяца, а я, выскочив без шинели, в одних валенках, умываюсь жестким снегом, — то в эти минуты жизнь казалась мне одинокой и прекрасной до слез, и ни до какой войны не было мне дела, хотя за горизонтом и слышались уже привычные звуки как бы где-то далеко выбиваемых ковров.
Это был ближний тыл. А потом я увидел и передовые позиции: едкий бальзамический дым еловых костров, глубокие землянки-блиндажи в три или даже четыре наката ядреных сосновых бревен, истекающих прозрачной смолой, и в печурке трещат ловко наколотые дрова, а земляные нары, на которых спал наш орудийный расчет, были застланы душистым лапушником и можжевельником с мутно-синими ягодками.
Несмотря на масляную коптилку и отблески горящей печурки, в землянке нашей было так темно, что, выбравшись из глубины наверх по земляным ступеням, обшитым свежим тесом, я бывал почти до обморока ослеплен дневным светом — независимо от того, светило ли солнце или небо было покрыто темными тучами.
Рядом с землянкой, наполовину вкопанное в землю, стояло наше орудие — скорострельная трехдюймовка. Таких орудий в батарее было шесть, и они были выстроены в ряд, по линейке, так называемым параллельным веером.
Наше орудие на первый взгляд немногим отличалось от тех пушек, какие были во времена дедушки и прадедушки: хобот, колеса, зарядный ящик. Но если присмотреться, в нем было много нового и даже новейшего: масляный компрессор, передний щит, защищающий орудийную прислугу от пуль и осколков, разные поворотные и подъемные механизмы, но главное — оптический прибор прицельного приспособления, или, как его называли, панорама, бережно хранимая, как микроскоп, в особом стальном ящичке, приделанном к станине орудия, и во время стрельбы вставлявшаяся в гнездо рядом с местом первого номера, то есть наводчика.
Затвор был поршневой и на вид очень массивный и тяжелый, стальной. Но он очень легко открывался — стоило лишь нажать и потянуть на себя рукоятку на пружинке. Тогда открывалась казенная часть ствола, и туда, в зеркально отшлифованное отверстие, надо было вогнать снаряд, который назывался у нас унитарным патроном, так как составлял как бы одно целое с медной гильзой. Потом затвор так же легко закрывался, защелкивался, и для того, чтобы произвести выстрел, следовало дернуть за короткую цепочку, обшитую кожей, что делало ее похожей на сосиску.
Никогда не забуду свой первый выстрел!
Бомбардир-наводчик Ковалев навел орудие, «отметившись» по отдельному дереву в полосе дальнего леса, я открыл затвор черной вороненой стали, вложил в казенную часть длинный и довольно тяжелый унитарный патрон с головкой, поставленной «на удар», достав его предварительно из особого лотка, а потом плавно захлопнул затвор.
Орудийный фейерверкер проверил верность прицела, приложив глаз к окуляру оптического прибора, и дал мне предварительную команду:
— По цели номер семнадцать гранатой — огонь!
Но это еще не значило, что я должен тянуть за сосиску, я должен был дождаться окончательной команды «первое».
— Первое! — крикнул орудийный фейерверкер, записывая что-то в записную книжку в клеенчатом переплете.
«Первое» — это был номер нашего орудия.
Со страхом, даже с ужасом я взялся за кожаную сосиску спускового устройства и, зажмурившись, изо всех сил дернул. В тот же миг из дула вылетел лоскут красного огня, но звук оказался не столь оглушительным, как я представлял: не басовитый, барабанный, а скорее какой-то струнно-сорванный. Одновременно с этим орудие подпрыгнуло и ствол отскочил назад, чуть не ударив замком мою руку. Потом масляный компрессор не торопясь, как бы на салазках накатил его на прежнее место. А звук вылетевшего снаряда шарахнул метлой по верхушкам рощи и унесся вдаль, к немецким позициям, все утихая и утихая.
Мои товарищи солдаты, стоявшие вокруг, с добродушным смехом поздравили меня с боевым крещением… а звук снаряда все еще слабо слышался, пока совсем не заглох, и лишь через минуту или две откуда-то издалека, из-за синих белорусских лесов, донесся слабый звук разорвавшейся гранаты.
Оказалось, что «мой снаряд» хотя, в общем, и попал по цели номер семнадцать, но в это время там не было «скопления неприятеля» и он разорвался впустую, о чем нам тут же сообщил телефонист, высунувшись из своего окопчика, связанного проводом с наблюдательным пунктом.
Помню мое огорчение по этому поводу. Тогда я не отдавал себе отчета о последствиях попадания моего снаряда по «скоплению неприятеля».
Только сейчас, через шестьдесят лет, мне вдруг однажды бессонной ночью представилось, что было бы, если бы наш снаряд попал куда надо.
…Толпа немецких солдат в серо-синих шинелях и касках в суконных чехлах, стоящих с алюминиевыми манерками возле походной кухни, — и вдруг раздается резкий свист и в самой середине этой толпы разрывается граната, которую я только что держал в руках: во все стороны летят оторванные ноги в сапогах, руки, котелки, окровавленное тряпье, исковерканные каски, и черное облако вонючего мелинитового дыма застилает всю эту ужасную картину массового убийства, совершенного девятнадцатилетним сентиментальным мальчишкой, поэтом и фантазером, потянувшим за кожаную сосиску за пять верст оттуда.