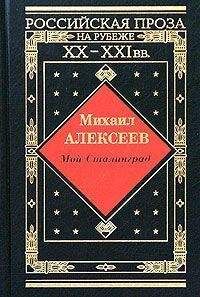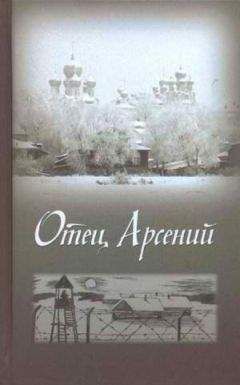Франсуаза Шандернагор - Селена, дочь Клеопатры
Мысль о том, что его голова отделится от тела, вызывала в нем чувство отвращения. Не то чтобы отрубленная голова казалась ему чем-то выходящим за рамки разумного – как еще солдат мог доказать, что его миссия выполнена? К тому же он был готов признать, что голова, надетая на пику, или выставленная на трибуне Форума, или повешенная над входом во дворец, может стать весомым примером. Он не малодушный человек – пускай показывают народу его голову; но ему была ненавистна мысль о том, что над ней могут насмехаться. Как диктатор Марий забавлялся на пиру с головой самого выдающегося из Антониев, знаменитого оратора, его дедушки Марка. Или как царь Парфии – с головой римского генерала в театре. Швырять голову, как мяч, класть ее на тарелки, бросать актерам или мочиться на нее – подобные выходки казались ему, мягко говоря, неуместными. Каким бы истинным римлянином он ни был, он не мог не испытывать отвращения.
Впрочем, на практике обезглавливание было не настолько простым решением, как наивно полагал Курион в свои восемнадцать лет. Следовало самому об этом позаботиться, поскольку раб, вольноотпущенный или нет, всегда будет скован двумя противоположными законами морали: с одной стороны – беспрекословно слушаться своего хозяина, с другой – никогда не поднимать на него руку. Вдруг в самый решительный момент некоторые окажутся неспособны преодолеть этот конфликт и предпочтут убить себя, чем помочь своему хозяину сделать то же самое. Мудрая предосторожность, поскольку если они выживут, то их смогут обвинить в убийстве. Смерть за смерть, и они предпочтут не послушаться, покончив с собой, чем убить себя после того, как они послушаются… Эти несчастные рабы всегда идут по пути наименьшего сопротивления!
Оставалась другая форма самоубийства, пожалуй, единственная, поистине достойная римского правителя, – вспарывание живота. Следует вонзить в землю меч и броситься на него всем своим весом. Те, кто стар для таких упражнений, ложатся на кровать и со всех сил вонзают себе в живот короткий кинжал. Главное в этом деле – точно попасть в печень или в кишечник, но при этом способе смерть будет медленной; к тому же столь сложный маневр требует твердой солдатской руки.
Оборвать свою жизнь он попросил своего пажа Эроса, но для этого приказал тренироваться: сначала на тыквах, затем казнить двух или трех приговоренных к смерти. Любое точное движение требует некоторой тренировки. Но как Антоний сможет надлежащим образом обеспечить первую часть операции? Можно ли научиться вспарывать себе живот? За неимением практики многие римляне промахнулись. Хотя, конечно, не все были так невезучи, как бедняга Катон Утический, которому после неудачной попытки самоубийства семейный врач зашил живот, и он, чтобы все-таки покончить с собой, вынужден был разорвать рукой шов и вытащить внутренности…
Антоний не любил думать об этом подолгу. Как и вспоминать о своем брате Гае, которому перерезали горло. Он хотел бы умереть в бою и все еще надеялся встретиться с опасностью. В Паратонионе он без охраны приблизился к оборонительной стене, завоеванной легионерами Галла (поэта Галла, его «друга» Галла); он подошел один под предлогом желания пообщаться со своими бывшими войсками и ждал от них лишь милосердной стрелы… Но ее не было: перешедшие на сторону Октавиана люди настолько любили Антония, что не могли пристрелить его, как птицу, попавшую в сеть.
Следовательно, он сам должен был выполнить эту работу… Он действительно хотел умереть за Клеопатру и даже из-за Клеопатры, но сделать это желал рядом с ней. Однако она отказывалась даже говорить об этом. Когда-то в Эфесе, когда он еще повелевал половиной мира, они подняли этот вопрос в веселой компании, когда в послеполуденный час сидели на позолоченных стульях в первом ряду театра: в честь Диониса актеры играли отрывки из древних трагедий для пятнадцати тысяч приглашенных; после «Аякса»[138] речь сама собой зашла о самоубийстве.
– Я не понимаю, почему мужчинам так нравятся кровавые ритуалы, – заметила Клеопатра, разгрызая пинию. – Вы желаете умирать насильственным способом и забрызгивать кровью всех вокруг… Мы, женщины, в этом плане более сдержанны и хорошо воспитаны!
– Не все! – возразил Деллий, который тогда был их лучшим другом и который до сих пор их не предал. – Добродетельная Лукреция[139] решила убить себя кинжалом и тем самым тоже пролила кровь.
– Хорошо, – сказала Клеопатра, – Лукреция была в дурном настроении, потому что ее изнасиловали. Но за этим исключением мы убиваем себя очень чисто. К примеру, умираем от голода – весьма элегантная смерть.
– Но бесконечная, – подчеркнул Антоний. – Из этого видно, что у вас много времени на смерть: любовное разочарование, разрушенный дом, гибель мужа – все это предполагает достаточное количество времени для действий. Однако побежденный генерал обязан действовать моментально.
– Забрызгивая весь дом? Полноте! Когда мы торопимся, тоже используем быстрые средства, но ничего не пачкаем: утопление, удушение, порошки…
– Порошки? Вздор! Никакой гарантии успеха!
– Все зависит от тех, кто их готовит, император. Для этого мало быть врачом, следует к тому же разбираться в ботанике, в благовониях… Наш друг Главк (в то время она еще не казнила его) получил в Музеуме порошки, действующие быстро и надежно. Впрочем, кто нам помешает на худой конец подражать вдове Брута, проглотившей горящий уголь? Во внутреннем кровотечении, происходящем вследствие этого, нет ничего унизительного…
И вот, когда Антоний стал пытаться привлечь Царицу к необходимым практическим решениям – умереть как, с кем, когда? – то она одним словом отбросила все его предложения:
– Один час жизни, Марк, – все еще жизнь!
Возможно, она думала о детях. Она наверняка думала о них больше, чем он. Но их нельзя было спасти, никого, кроме, пожалуй, Цезариона, который уже достаточно взрослый, чтобы бежать и скрываться, хотя его готовили к жизни фараона, что совсем не предусматривало противостояния неизвестному! Он даже не готов был переносить неудобства, чтобы в один прекрасный день все же завоевать свой трон…
Каждый вечер, проведя осмотр легионов и отправив кавалерию, которой он самолично командовал, в долину, Антоний оплакивал судьбу сына Цезаря, судьбу своих близнецов и свою собственную. В такие минуты он звал Эроса и начинал пить. Он принимал вино как лекарство, поскольку Олимп, превосходный врач, сам посоветовал ему это:
– Боги открыли человеку вино для его же блага. Это средство от всех недугов. Поскольку у тебя очень проницательный ум, господин, и ты весьма прозорлив, то умеешь предвидеть, представлять, следовать за воображением, отчего неминуемо впадаешь в меланхолию: так же, как ты хочешь жить, хочешь и умереть. Лекарство от этого – вино; пей белое вино, молодое и легкое, разбавленное водой на три четверти. – И, увидев на лице Антония недоверчивое выражение, добавил: – Ты разбавляешь его гораздо меньше?
– Да, меньше. Я – солдат.
– Все же следуй моему совету до одиннадцати часов дня. Затем делай что хочешь…
Никто из его людей никогда не видел его пьяным; его друзья – да, иногда; но разве можно назвать друзьями тех, кто не был с ним «другом по желудку»? К тому же он не знал меры только тогда, когда был лишен возможности действовать, прикованный к одному месту, как узник. А во время боевых действий он пил только воду, потому что и без того был пьян от атак. Поскорее бы прибыл Октавиан: призыв букцинов, кавалерийские атаки, грохот доспехов – и полное спокойствие, которое каждый раз им овладевало, эта беспечная благодать, это переполняющее желание вечности и изысканности… У него было немного шансов пасть на поле боя.
Глава 34
По приказу Царицы были восстановлены подземные туннели, ведущие из «внутренних» дворцов к горе Пана, – покрытому лесом холму конической формы, расположенному за театром. Со времен правления первых греческих фараонов улицы Александрии всегда были заполнены народом, поэтому с целью экономии времени оборудовали этот тайный ход вдоль резервуаров с нильской водой. Когда Царский квартал оказался в осаде, Цезарь из предосторожности замуровал выход. Антоний захотел снова им воспользоваться, чтобы быстрее добираться из дворцов до крепостной стены и до долин, где с минуты на минуту должна была появиться испестренная флагами римская армия.
Этот потайной путь также служил гарантией того, что никто не узнает о передвижениях главных офицеров: если шпионы Октавиана уже были здесь, они ничего не смогут узнать, следя за главными воротами «внутренних» дворцов. Царица решила устроить побег своего старшего сына.
Он покинет здание через подземный ход, а город – по каналу Доброго Гения, переодевшись в молодого торговца и взяв с собой старого слугу и учителя Родона. Будучи местным жителем, Родон долгое время состоял в подчинении у Евфрония, прецептора-посла, находившегося сейчас в плену у Октавиана. Поэтому Родону, который в какой-то мере был Диотелесом Цезариона, доверили деньги.