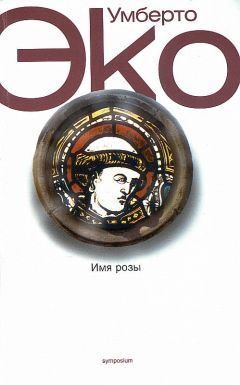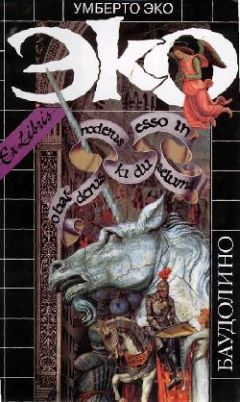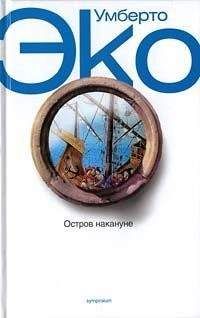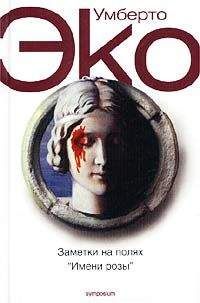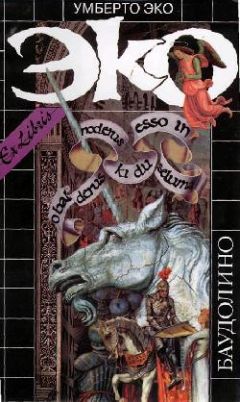Кейт Мэннинг - Мoя нечестивая жизнь
Имя доктора Ганнинга часто появлялось в газетах, он был одним из самых знаменитых врачей того времени, так что я поступила согласно его рекомендациям. Грета, благослови ее Господь, удалила у меня кровь из нижнего таза, хотя сама она жаловалась на боли пуще моего. Я следовала унылой овощной диете и периодически очищала кишечник, тем не менее всякий раз мой цикл неизменно отправлял меня в постель с мигренью, коликами и тошнотой. Других детей у меня не появилось. У Белль не было ни сестры, ни брата – впрочем, как и у меня. Мне все столь же отчаянно хотелось отыскать Джо, повидать Датч, которая уплыла в синюю даль и больше мне не писала. Даже ее лживая мать, миссис Эмброз, не дала себе труда писать мне фальшивые послания. Почему? Несомненно, она дозналась, что вся ее ложь раскрылась, что Датч все знает. Подлинное происхождение Датч, сироты, папистки и беспризорницы, наверное, стало достоянием гласности. Что касается Джо, никакой информацией не располагаем, сказал мне мистер Дж. Морроу из Общества помощи детям.
Дорогая миссис Джонс, более двух тысяч детей иммигрировали на запад из Нью-Йорка в 1860 году, у нас нет своих полевых агентов, чтобы отслеживать судьбу каждого из них.
После чего лично он и Общество перестали отвечать на мои письма.
Масштабы моей тоски по большой мирной семье понятны, если я опишу свою мечту: наши малыши играют у камина, а кузены, дядюшки и тетушки вьются вокруг меня и Чарли, да и Белль окружена толпой родственников.
В возрасте четырех лет у дочери объявился очаровательный шепелявый выговор и воображаемый братец по имени Кокоа.
– Кокоа беременный, – объявила она однажды. – Он собирается родить девочку.
– Но он же твой брат, – возразила я.
– Да. Рыжий!
– Но только женщины могут забеременеть, – сказала я очень спокойно, хотя тут же вспомнился мой собственный рыжий братец. – Маленький мальчик не может иметь ребенка.
– Когда вырастет, сможет.
– Когда Кокоа вырастет, он может стать отцом, это верно. Но родить ребенка он не сможет.
– Кокоа сможет. Он ночью всегда рожает.
Чарли рассмеялся, и мы решили, что у Белль слишком длинные уши и ей не следует торчать со мной целыми днями в клинике.
– Мы должны подарить ей братика, – сказал муж с блеском в глазах.
Но все наши усилия оборачивались пшиком.
– Может, следует усыновить ребенка? – предложила я как-то ночью Чарли, когда мы лежали в темноте. – Не родились ли эти кандидаты прямо в нашем доме? Или они спят на перекрестке Бенда?
– Дай срок, Энни, – ответил он, – может, маленький мужчина предпочитает естественный путь. Если ты понимаешь, о чем я. У нас еще масса времени.
Но он согласился, что некоторые женщины могут захотеть отказаться от ребенка по множеству причин, будь то стыд или бедность. В этом случае можно усыновлять, почему бы нет?
– Он же умрет, малыш-то, без кормилицы.
А может, нам стоит найти сироту постарше? И снова у меня перед глазами вставал малыш Джонни, которого я совсем еще девчонкой отнесла в приют к монахиням.
– Зависит от обстоятельств, ведь так? – сказал Чарли. – Будем держать ухо востро.
Да, мы держали наши уши востро, рассматривали разные возможности и сложности, с этим связанные. В плохие дни, заполненные ревностью, я подозревала, что моя беременность в свое время вынудила Чарли пуститься в бега. Многие ночи его половина постели была холодной пустотой, которой полагалось быть занятой супругом.
– Мужчине нужна свобода, – объяснял он. – В этом я ничуть не отличаюсь от других.
По мне, это была плохая рекомендация.
Ничуть не отличается, как же. Нажил капитал на жене. Что-то он забыл про свое желание стать репортером и всего себя отдал бизнесу Мадам Де Босак: вел бухгалтерию, ведал почтовыми заказами, занимался рекламой, ездил в Филадельфию и Бостон, в Нью-Хейвен и Ньюарк, Провиденс и Балтимор. Двигал бизнес, порой пропадал ночами.
– К сожалению, вынужден вас покинуть, мадам, – говорил он, – но это все для того, чтобы вас поддержать.
По его словам, он родился для скитаний, и он любил поездки, так же как любил яйца по утрам, газеты, выложенные рядком на столе, любил читать анархистские брошюры, для чего надевал очки. Он любил проводить субботние дни в книжной лавке Матселла или в клубе Фримана, а вечера в «Билли Гоат» или «Харп Хаус». Он был частым гостем Чикеринг-холл[73] или Общества этической культуры, где слушал речи радикалов и евреев, правых и спиритуалистов, а после отправлялся на диспут с друзьями, где пускался в рассуждения о морали, войне, перенаселенности и правах рабочих. А я бесилась, глядя на пустую половину кровати, и по его возвращении набрасывалась с упреками. От него не пахло чужими духами, на пиджаке его я не находила чужих волос – словом, никаких улик. Но моя ревность не утихала.
Как-то утром, на восьмой год нашего супружества, он прибыл под семейный кров, когда первые солнечные лучи просочились через занавески. От него разило табаком и джином.
– Где ты был? Где опять шлялся?
Стоило ему опустить голову на подушку, как я со всей силы саданула ему по ребрам и пустила в ход язык, которому было что сказать.
– Во имя господней любви, почему ты никому не веришь? – взвыл он оскорбленно. – Сирота, он всегда сирота – такая у тебя песня, миссис Джонс? Разве ты не замужняя женщина и не живешь в кирпичном доме?
– Я устала. Воняешь, как извозчик. Когда это кончится?
Соль моих слез изменила тональность его речей.
– Экси, моя Энни, – простонал он, – ты же знаешь, я никогда тебя не обманывал, собачка хорошенькая. Мой шелковый воробушек. Ангел земной.
– Больше не корми меня такой чушью.
– Мать Христова. На этой неделе я отмахал до Питтсбурга и обратно. А всего-то надо было продать фургон лекарств одному доктору и поддержать доброе имя Мадам среди сельского населения. Вернулся – и обнаружил, что некому согреть мое старое бедное одинокое сердце, и это после долгого утомительного путешествия.
– Уж не сердце ты хотел согреть, я-то знаю.
– Черт тебя подери! Ты должна доверять мне!
Никогда не верь человеку, который говорит: доверься мне.
С этим советом особо не поспоришь, и под давлением обстоятельств я решила применить его на практике.
– Ну иди же сюда, я замерз, – прошептал Чарли, ноги у него и впрямь были ледяные. – Вот она, моя Энни. Вот она, моя девочка.
Таков был его метод убеждения, и поскольку у меня не было другого выбора, то к завтраку мы помирились, но суть размолвки была все та же, что и шесть месяцев назад: верить ему или нет. С Чарли я была все время настороже. Он вытащил меня на крышу поезда, и мы все ехали и ехали.
– Кто они такие, эти твои друзья? – спросила я его однажды, когда он застегивал воротничок, намереваясь снова испариться.
– Да, кто твои друзья, папа? – пропела Белль. Вместо ответа он подхватил ее мотив – специально для своей принцессы, которой исполнилось четыре года.
– О, кто же эти люди, – пел он, – кто они такие?
– Вилли, вот мой друг! – рассмеялась Белль. – И Либхен, и Шницель, и Кокоа.
Либхен звали ее куклу, а Шницель – деревянную лошадку. Она всех называла немецкими именами, спасибо Грете. Моя дочь знала про spätzle[74] больше, чем про гордый род Малдунов и про Кэррикфергюс или про горшок доброго коддла[75]. И это было правильно, потому что хорошее знание Ирландии и ее обычаев вовсе не открывало тебе все двери. Во всяком случае, не совсем те, которые я хотела бы.
– У меня нет друга по имени Шницель, – сказал Чарли, – зато у меня есть друг, которого зовут Уилл, и это вовсе не плут Вилли, с которым ты играешь.
– Что еще за Уилл? – насторожилась я. – Мне кажется, я не имела чести быть ему представленной?
– Потому что его фамилия Сакс, и он завсегдатай салуна «Могучий Единорог», где женщины не приветствуются.
– Тогда приведи его сюда, и прочих своих единорогов тоже. Пусть у тебя будет свой собственный салун, где я смогу всех увидеть.
– Салун! А почему бы и нет? Интеллектуалы без ума от них, только называют салоном. Еще они обзывают прием «суаре». Им по сердцу все французистое.
Впрочем, и Чарли нравилось все французистое. Как и мне. Так что вечером следующей субботы я надела свое шелковое платье цвета бургундского вина, жемчужное ожерелье и выступила в роли хозяйки салона перед шестью мужчинами в нашей гостиной. ФИЛОСОФЫ, назвал их Чарли. Среди них были Уилл Сакс и Дэвид Аргимбо. Еще Эндрю Моррилл, юрист, и Билл Оуэнс – сутулый, длинный, тощий астматик.
– Вам понравятся эти достопочтенные господа, миссис Джонс, – сказал Чарли. – У них академический интерес к женской физиологии.