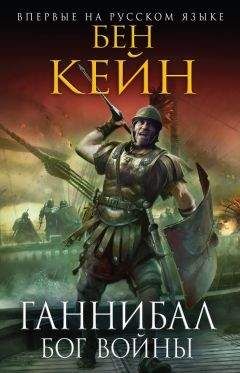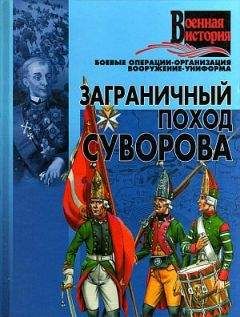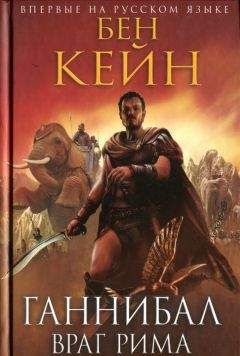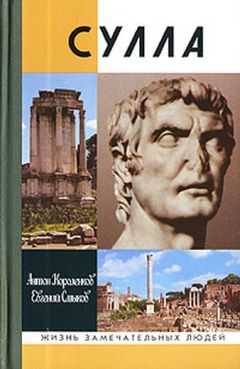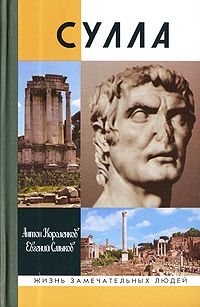Август Шеноа - Крестьянское восстание
– Не хочу, сейчас же едем к Губцу, – настаивал Могаич, поворачивая коня.
– Ну, пусть будет по-твоему! – И ускок пожал плечами.
– Прощай, девочка, спасибо тебе!
И товарищи сразу поскакали обратно на своих резвых конях, а девочка смотрела им вслед удивленными глазами.
В Верхней Стубице, когда Могаич и Ножина скакали через село, как раз звонили полдень. Ускок, не обращая ни на кого внимания, смотрел на гриву своего коня, тогда как Могаич вытянул шею и заглядывал в каждый уголок своего родного села, которое его глаза не видели столько лет. В его душе пробуждались далекие воспоминания, ему хотелось и плакать и смеяться. Наконец они достигли дома Губца.
– Слезай! – сказал Могаич, соскакивая с коня и привязывая его к столбу ограды. Ножина последовал его примеру.
Они вошли во двор. Царила мертвая тишина. Направились к дому мимо орехового дерева. Вздрогнув, Могаич остановился и указал на что-то пальцем. Перед домом, на большом камне, сидела молодая женщина. Обвив руками ноги и положив голову на колени, она неподвижно уставилась в одну точку. Вдоль бледного лба падали растрепанные волосы, поблекшее лицо было лишено всякого выражения, в потухших глазах не было видно мысли.
– Марко, – прошептал в ужасе Могаич, – ты видишь эту женщину?
– Вижу, слава богу!
– Знаешь ли ты Юркину Яну? – И он схватил товарища за руку.
– Только по имени, по твоим рассказам.
– Пойдем, ой, пойдем! – И парень, дрожа, потащил за собой ускока.
Они подошли к женщине.
– Яна! – вскрикнул он, схватившись за голову и смотря на нее испуганными глазами. – Яна! Боже мой, ты ли это?
Женщина пошевельнулась.
– Яна! – крикнул парень громче и положил руку на ее плечо. – Яна, это я… я, твой Джюро… я! Джюро Могаич!
От прикосновения женщина вздрогнула, оскалила зубы, вперила в парня неподвижный взгляд и разразилась хохотом:
– Ха! ха! ха! Старый господин, мы окапывали кукурузу, а колокола звонили! Дзинь! Дзинь! Слушай! Зачем вы пришли? – Глаза девушки засверкали диким блеском, и, вскочив, она крикнула: – Проклятый волк! Ты снова пришел есть мое сердце, пить мою кровь! – Она грубо схватила Джюро за грудь и заскрежетала зубами. – Хо! хо! хо! Слушайте, ко мне идут сваты, к Доре Арландовой! Глянь-ка, – зашептала Яна, показывая пальцем на деревья во дворе. – Видишь, сваты: один, два, три; видишь, вот это кум, а это шафер. Здравствуйте, господа! Тише, тише, сердце спит, пусть себе спит, не будите его!
Испуганный Джюро попятился и ухватился за Кожину, который, побледнев, наблюдал за девушкой.
– Марко, – шепнул взволнованно Джюро, – это Яна, это моя невеста.
– Несчастный! – воскликнул ускок. – Да ей не до жениха. Посмотри, как горят ее глаза. Она сошла с ума.
– Сошла с ума! – вскрикнул парень сквозь слезы, закрыв лицо руками. – Боже мой! Неужели ты избавил меня от страданий для того только, чтоб я увидел такой ужас? Чтоб я увидел, как моя возлюбленная превратилась в животное. Моя Яна! Что я тебе сделал!
И парень с криком бросился на траву и прижал лоб к сырой земле, а девушка подняла голову, подняла кверху палец и, широко раскрыв глаза, зашептала солдату:
– Слушай! Слушай! В горах завыл волк. Здравствуй, волк! Здравствуй! Я тебе дам его сердце, дам. Вот, на! Взял его, взял? Стисни зубы! Ешь, брат волк, ешь! Ох, он и меня укусил, вот тут, тут, больно укусил, – и приложив руку к сердцу, девушка принялась горько плакать, как плачут маленькие дети.
Марко стоял молча, голова его опустилась на грудь, загорелое лицо исказилось от неизмеримого страдания, а на глазах выступили слезы.
– Кого бог принес? – раздался голос с дороги.
Ускок обернулся, а Джюро вздрогнул, как от удара молнии.
– Дядя! Дядя! Это твой Джюро! Из огня да в полымя!
С распростертыми объятиями бросился парень к Губцу, который, быстро войдя во двор, остановился, посмотрел, вскрикнул от радости и горя, прижал его к груди железной рукой и, вздохнув, произнес:
– Ох, Дядаро, сын мой, дорогой мой сын! Откуда тебя бог принес?
Джюро поднял голову:
– Бога ради, не спрашивайте, скажите лучше – неужели это Яна, моя Яна?
– Да, – ответил грустно кмет.
– Но кто же ее сделал такою?
– Тахи, – ответил Губец.
– Тахи! – закричал парень так, что отдалось в горах, и сразу схватился за ружье.
– Постой, парень! – И кмет удержал его за руку. – Выслушай меня и ты, брат Марко. Ваши сердца готовы разорваться от неожиданного горя. Мое уже очерствело. Тахи силой осквернил твою невесту, и девушка сошла с ума. Вы пришли вовремя, вовремя вас бог освободил! Окинь взглядом эти долины, обними мысленно эти горы! Здесь каждое сердце болеет твоим страданием, но загляни подальше, где за горами голубеет небо, на запад – под Суседом и Ястребарским, на север – под Цесарградом и Крапиной: сердце всего народа бьется заодно с твоим! А брось взгляд и еще дальше, туда, где вдоль всей Савы в небо упираются краньские вершины, где под немецким кнутом стонет штирийский кмет; всюду, клянусь богом, из каждой избы смотрят безумные глаза Яны, глядят и пылают, и повсюду в сердцах кметов бурлит поток. Довольно нас распинали, довольно нас обманывали! Долой господ! Долой не только Тахи, он лишь один из камней этой кровавой башни. Разрушим ее всю! Когда бог придет судить, он получит меч от крестьян. Мы вырвем из дьявольских рук эти лживые весы, сожжем книги их ложных пророков и мечом напишем новый закон, чтоб каждый человек стал человеком перед богом и людьми. Яна! – позвал Губец, посмотрев в упор на девушку.
Безумная подняла голову, ее увядшие щеки слегка зарумянились, бессознательная улыбка заиграла на ее бесчувственном лице. И, скрестив руки на груди, опустив голову, она покорно подошла к Губцу.
– Что, Гавриил, ангел мой, – сказала она, целуя руку кмету, – ты так прекрасно поешь, о продолжай петь! Это приятно, очень приятно. Мне тогда кажется, что у меня снова есть сердце. Я его потеряла. Была в горах, видишь, там, высоко, там, где бог, и искала повсюду свое сердце. Не нашла. Спросила у звезд, они сказали: ищи и найдешь его. И нашла я тебя, ангел Гавриил! Ты хранишь мое сердце. О, отдай мне его, умоляю, отдай! Чтобы снова оно билось, как в то далекое, далекое время, когда я не была еще Дорой Арландовой.
Губец, положив руку на голову несчастной, сказал парню:
– Видишь, безумие твоей бедной невесты подняло нас, крестьян, на честное дело. Мы поклялись, что не успокоимся, пока не отомстим за тебя; и даю тебе честное слово перед богом, что Матия Губец не примирится, пока не сдержит данного слова. Наши братья готовы, села ждут; пройдет еще, может быть, несколько месяцев, и свершится суд. А пока смирись, потому что ты не имеешь нрава своей преждевременной местью помешать мести всего народа. Я поведу народ, а у меня и так нет никого, кроме тебя. Моя мать умерла, да и Юрко, отца Яны, я схоронил.
– Хорошо, – сказал убитый горем Джюро, – я послушаюсь вас, дядя. Я выну саблю только бок о бок с вамп и рядом с вами, бог даст, п погибну. Мне уж нечего ожидать на этом свете, так хоть другим помогу.
И парень подошел к Яне, поцеловал ее в лоб и прошептал сквозь слезы:
– Тебя и никого больше! Ты погибла, так пусть погибну и я!
Девушка посмотрела на него широко раскрытыми глазами.
– Братья, – сказал Ножина, – если вы не против, и я пойду с вами, пойду со своими бедняками, которые умирают с голоду в ожидании расплаты.
– Мы принимаем тебя, честный человек, – приветствовал его Губец. – Зайдем-ка в дом, переговорим, послушаем о твоих невзгодах и обсудим положение. Оставь девушку одну, Джюро. Она так будет спокойнее.
Крестьяне вошли в дом, а Яна, напевая, направилась к лесу в поисках своего сердца.
30
У самого штирийского берега Савы, как раз против местечка Кршко в Краньской, на взгорье, расположен Ви-дем. За ним – довольно высокая гора, на вершине которой упирается в небо маленькая церковь святой Маркеты. Отсюда, с поляны, открывается широкий вид: к западу на Кршко и на протекающую между горами Саву, а к востоку на равппну вокруг Брежиц и дальше, на Самоборскую гору. Здесь, на поляне, среди лиственниц, одиноко стоит довольпо большой дом. Внизу каменный погреб, а наверху – крепкое деревянное строение под крутой почернелой крышей. Вокруг дома – навес, под которым густыми рядами висят желтые початки кукурузы. Был 1572 год, после праздника всех святых. Наступала темнота. Небо было пасмурно; сильный влажный ветер крутил по дороге пожелтевшие листья, а когда он стихал, начинался дождь. Этот одинокий дом принадлежал Николе Кроботу, плечистому, грузному штирийцу с широким красным лицом, известному богачу, но человеку отзывчивому. В задней просторной комнате дома собралось разнообразное общество. Хозяин запер двери. Рядом с ним, подле небольшого светильника, сидел Илия Грегорич, затем ускок Ножина, а напротив него три весьма различных человека. Джюро Планинец, сапожник из Кршко, маленький, сухой человек с острым лицом и таким же носом, с серыми, беспокойно бегающими глазами; на голове у него торчала шляпчонка, а во рту болтался злой язычок. Его сосед был среднего роста, красный, крепко сбитый; на круглой голове его топорщились жесткие черные волосы и лохматилась длинная борода, из-под белой шапки уставились на светильник большие круглые глаза. Это был кузнец Павел Штерц из Святого Петра у штирийского Кушпперка. Третий, Андрия Хрибар, кожевник из Ратеч в Краньской, худой, долговязый парень. Он все время косился на свой крючковатый нос и за постоянной усмешкой скрывал свои тайные мысли. В углу у печки сидел еще Шиме Дрмачич, изредка заглядывавший в стоявшую перед ним на полу кружку, а к печке прислонился, грея спину, дряблый, белокурый, веснушчатый человечек – лавочник Никола Дорочич из Метлики.