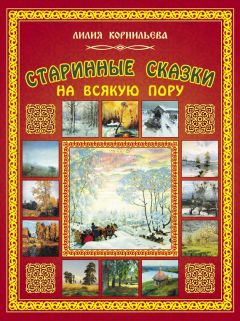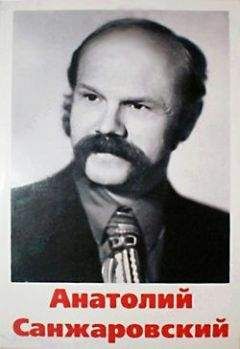Александр Быков - Чепель. Славное сердце
Когда вдруг Прытко поднял голову, у него вырвалось: «А-х! Глядите, люди!» Все посмотрели наверх и остановились.
Над крепостью, над полем битвы, упираясь краями в лес с обеих сторон и круто возвышаясь надо всем, невероятными яркими цветами сияла радуга! Все стояли, сначала не имея слов. И глядели, глядели на Сварожий свет, на души, уходящие в небо.
— Слава руси!
— Слава Богам и Предкам наша!
— Слава!!
Киевский наместник Силантий, подоспевший со свитой бояр и с войском в пять сотен ополчения только к похоронам, смотрел на Вершислава, почти как на врага. Старшина княжей стражи не уберёг князя, а сам живой!.. Что с ним делать? Хотя все показания, быстро, но дотошно расспрошенных беловежских дружинников говорили, что Вершислав храбрый и справный воин и смышлёный начальник и подвигов совершил немало, и свой воинский долг выполнял, не жалея живота, наместник верить ему не хотел. «А князь-то где?! Где семья князя?» «Брат родной здесь погиб, слава ему и почёт, а ты где был в это время?!» Говорить про семью князя отказывается, ссылается на последнюю волю князя. Что Любомира следует искать в Ломже, наместник тоже думать не мог: «У князя Изяслава Ярославовича с Войцемежем мир! Да с королём польским — мир! Понимаешь, что говоришь?! Послов пошлём, а войско не пошлём! Что тут непонятного?!»
— Пойдёшь ко мне в дружину простым дружинником? — Изогнув бровь и глядя исподлобья, спрашивал наместник.
— Не могу, боярин…
— Почему это?
— Я присягал своему князю, и никто меня от этой присяги не освобождал.
— А где князь твой? Десятый раз спрашиваю!
— Думаю, в Ломже, если немцы его не порешили или не увезли. Выручать надо князя. Да побыстрей. — говорил сдавленно и настойчиво Вершко, глядя себе под ноги. Не слушает его Силантий, кто он этому Силантию?.. Как докажешь «этому», что ВЫРУЧАТЬ НАДО.
— Всё одно и тож, дай за рыбу грош… Брать тебя под стражу мне совесть не позволяет, и вина твоя никакая не доказана. — Хмуро и неприветливо сказал наместник Вершиславу. — Но и оправдать тебя тоже не могу… Для простого дружинника ты слишком важный, а начальствовать тебя поставить — тебе веры нет… Прямо скажу — лучше бы ты голову сложил, воин!
Так что, Вершислав… Чепель, ты теперь вольная птица. Иди на все четыре стороны̀… Понял, куда идти?!
— Благодарствую, не дурак…
— Хы-ых, «не дурак»… — как-то тягостно кряхтел Силантий. — Но, ежели что натворишь неуместное, смотри-и, вина в пропаже князя Любомира и его семьи ТЕБЕ припомниться! Всё. Иди!
Вершислав сказался друзьям и уехал домой. Обдумать, что делать ему теперь.
Вечером того же дня он сидел у отца с матерью, с женой и детьми. Доброгнева с Браниборовыми детьми здесь же была, не ревела по-бабьи, строго сидела. Ятвяжская кровь, упрямая. Горевали.
Вдруг, стук в дверь. Заходит Горобей.
— А что у тебя, Горобей, под глазом? Сегодня с утра не было.
— Это у меня печать об уходе со службы.
— Как так?!
— Я, чтобы не усложнять объяснений, что да как, да почему, поругался с новым сотником. Ну а чтобы, значит, он не сильно обижался, дал ему себя ударить.
Все изумлённо смотрели на Горобея.
— А что же разве я — не догадливый? Не знаю, куда у нас Вершислав собрался? Вместе поедем!
— Горобей!..
— Ладно-ладно, не трать слова. Мы же с тобой друзья. Я тоже Любомира уважаю, надо ж выручать, если есть ещё возможность.
Посидели, погоревали дальше. Стук в дверь. Заходит Брыва.
— О-о, Брыва, заходи! Чего ты?
— Как чего? Я же видел, как Горобей махался с новым сотником, скулу подставлял ему под кулак, а тот всё попасть не мог. Не спроста это он со службы утёк. И я за ним. Со службой расквитался.
— А как же ты служить расквитался, от киевлян открутился?
— Я сказал, что у меня болит печень от постоянных перепоев, а когда я пью, то буйствую очень. И что поехал лечиться. Со мной же не станут драться…
— Вот это да, чем же вы, друзья мои, зарабатывать на жизнь станете?
— А ты чем? И мы чем-то таким же. Не переживай пока! Сейчас надо князя выручать.
— А вы думаете, он жив?
— Если б был мёртв, то уже бы услышали… А потом говорят же, что Бранибор кричал… Простите, батюшка и матушка… — все поклонились родителям, что сидели, кручинясь.
— Да, верно…
Стук в дверь. Заходит Кудеяр.
— Здравствуйте, люди добрые! Вас уже тут много собралось! Когда поедем?
— Куда ты собрался ехать?
— Как куда? Князя надо выручать! А чего бы вы тут собрались?
— А как же служба?
— Ну, не смейтесь! За князем же ехать, и есть наша служба!
— А как же ты от киевлян ушёл?
— Незаметно!
Друзья все встали с мест и стали обнимать друг с друга, да хлопать по плечам да по спине.
— А как же я?! — в двери вскочил Прытко.
Все обернулись до дверей:
— Прытко! А ты как же здесь?!
— Как это как? Куда же я без вас один?
Все хором протянулись к вихрастой голове и потрепали Прытка за волосы. Хорошо получилось в четыре руки.
Друзья обнялись за плечи в круг, наклонивши головы.
Прытко осенила мысль: «Мы — дружина!»
Кудияр поддержал: «Все заедино!»
Брыва внушительно подтвердил: «Все друг за друга горой!»
Горобей: «Где мы там и наша победа!»
Вершко: «И мы в сердце нашей земли!.. За Бранибора!»
На следующий день Вершко прощался с Радуницей. Он стоял наедине с женой, обняв её за талию, а она, сложив руки у него на груди. Он любовался ею и говорил тихо и медленно:
— Радушка моя, я плохой муж и плохой отец… Дома не бываю… Прости меня… Мне снова надо ехать. — гладил русые волосы, заплетал между пальцев длинные пряди.
Радуница отвечала нежно, глядя в сторону:
— Нет, ты сам не плохой, у тебя только плохая память. Ты забыл, что я тебя люблю. Я могу связать тебе поводок и привязать тебя за ногу. Чтобы не забывал, что не надо уходить. А могу кузнецу заказать цепочку потяжелее, можно длинную, чтобы до уборной сам ходил. Можно ко мне приковать, чтобы помнил, что у тебя есть жена… И на голову тебе надеть шапку, а я на ней вышью: «Скажите этому человеку, что его ждут дома!»
Радуница подняла большие серые глаза на Вершко, а Вершко безотрывно смотрел на неё:
— Родной мой… у тебя появилась седина. — провела рукой по его виску.
— Значит, я повзрослел…
— Мы повзрослели друг без друга…
— Я думаю о тебе всегда… я воюю, чтобы враг не коснулся тебя и не разрушил наш мир…
— Я выплачу все глаза… стану старой и некрасивой. А ты вернёшся и не узнаешь меня…
— А ты не плачь, просто меня жди, смотри, как играют наши дети. Они ведь славные, правда? И ты не сможешь стать некрасивой, ведь я тебя люблю…
— Ты всё врёшь… Ты сочиняешь мне сказку, чтобы я не огорчалась…
— Конечно, вру… но не во всём…
— Я боюсь, что тебя убьют…
— Я ухожу, чтобы тебе стало нечего бояться…
— Сохрани себя, заклинаю тебя, сохрани себя, мой Ладушка!
— Я постараюсь…
— Очень сильно постарайся, Вершинка мой!.. Почему нельзя без войны?
— Просто люди ещё не все люди…
— А кто они?
— Они бояться… Бояться быть голодными, бояться замёрзнуть, бояться, что их обидят, бояться грома и молнии, шума и тишины, тьмы и света, зверей, друг друга, всего. И от страха они готовы делать любые глупости. Поэтому ты не должна бояться… Ничего… Никогда… Будь безстрашной…
— … Как ты?
— … Как я…
Будто волна и песок приникли друг к другу. Будто Вселенная замедлила ход, замерли реки в берегах, застыли облака в небе, птицы остановили полёт… и будто в этот миг на всей Земле никто и никого не обидел…
Маленький сын посапывал в своей люльке, а дочурка потянула ручки и обняла Вершко за ногу:
— Тятеська, пьихоти домой обизатейна…
Вершко ушёл, а Радуница, еле выпустившая мужа из рук, проглядела все глаза сквозь слёзы пока он не скрылся с глаз, стала в доме на колени и просила и молила целый вечер, как часто делала всю жизнь с Вершком:
— Макошь, матушка, рожаница-защитница, берегиня-жалостыня моя! Сохрани мне любимого! Дай ему ума-разума, дай силы, дай предвиденья! Погаси ненависть врагов! Отведи от моего Лады железо калёное острое! Дай нам пожить, не забирай счастья!..
Глава двадцать первая. Холодное утро
Студёная ночь в начале верасня. Золотое убранство лесов ещё только приготовлено, не одето, а лишь достано. Кристальный холодный воздух вязнет на вдохе, зацепляясь за горло и за ноздри. Всё небо затянуто низкой, давящей пеленой облаков. Пелена эта слабо колышется, почти неподвижна и всякая надежда на свет от звёзд или Луны кажется несбыточной.
В предместьях к восходу от Ломжи, в лесу, в середине большой поляны стоит древний старик. Опирается на высокую, выше пригнутых плеч суковатую клюку, отполированную за десятки лет касанием рук. Согбенная спина покрыта простой холстиной. От спины поднимается пар. Старик то поднимает руки к небу, то опускает, то разводит, бормочет невнятное, то медленно, то быстрее, раскачивается в каком-то ритме, который делается всё сложнее.