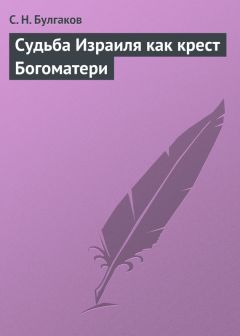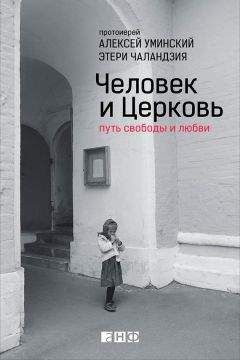Иван Супек - Еретик
– Ты же знаешь, таинства для меня никогда много не значили, – сумел он найти единственное оправдание.
– Для тебя – нет, а меня, вероотступницу, они обвиняла…
И вновь она так запутала его, что можно было предполагать самое худшее. Как ни пытались они скрываться от нескромных взоров, их долгая связь не могла оставаться тайной для вольных и невольных соглядатаев. И если архиепископа осмеливались задевать лишь изредка, обиняками, то ей всякий раз приходилось просить особого разрешения на выход из монастыря в тех случаях, когда во дворце не было необходимости в ее услугах. Но кто мог запретить им предаваться любви? Ведь они не совершали ничего, что не было бы обычным в быту тогдашней церковной иерархии.
– Я был твоим владыкой, твоим духовным пастырем.
– Чепуха, – она презрительно отвергала его наивный лепет. – Ты знал, кому я была обязана послушанием.
– Своему святому ордену?
– Единственной власти над всеми нами.
Недвусмысленный и твердый ответ не позволял сомневаться. Даже лежа с ним, она прежде всего подчинялась вездесущему ордену. Доминису казалось, что он здесь полновластный хозяин, а на самом деле у него не было даже крупицы власти, чтобы защитить свою любовницу, нарушавшую обет целомудрия. И коль скоро патер Игнаций позволял ей, значит, это служило интересам канцелярии генерала. Гадюка, забравшаяся к нему в постель, вдруг зашипела после неожиданного толчка. Он почувствовал глубокий укус, и яд растекался по жилам, разрушая хрупкие клетки доверия. Прежние предчувствия стали теперь горькой истиной, олицетворенной в образе белой монахини. Он был отравлен и сломлен всеобъемлющей властью иезуитов над ними.
– Проклятый орден! – оп задыхался в бессильной злобе. – Ты уготовила мне постель Далилы. И когда я погружался в самые сокровенные сны, ухо Священной канцелярии приникало к моей груди, не так ли, моя любовь?
– Я любила тебя, Марк, – возразила женщина, – все это долгое время, все двенадцать лет.
– Любила и бегала в иезуитскую исповедальню?
– Именно тогда – больше всего, несмотря на то что порой меня переполняла ненависть к тебе. Тебе было удобно в своем архиепископском кресле. Ты вел себя как мой повелитель, и ты знал, что грех отдает меня целиком в руки охотников за ведьмами. Достаточно было одного жеста отца Игнация, и мне пришел бы конец, а ты бы молча взирал со стороны.
– Нет…
– Порой мне хотелось проверить тебя огнем. Может быть, это и предстоит нам. Пошел тринадцатый год нашей жизни.
– Нашей жизни? – растерянно повторил он, и гнев его угас. – Ни один миг больше не могу я считать своим. Церковное государство полностью подчинило нас себе.
– Станешь ли ты все отрицать? Скажешь ли, будто не было у нас своих, сладких часов, когда забывалось обо всем?
– Если ты выдерживала…
И вновь он умолк, охваченный прежними недоумениями. Стоило ей чуть-чуть оттаять, как у него не хватало сил даже завершить свое обвинение. Окутанная тайной красавица одним-единственным словом гасила его подозрения, вызванные ею же самой. Ее поступки всегда оставались для него непонятными, и наверное, разумнее было бы вообще не подвергать их анализу. Однако всякий раз он сникал, поддавшись слабости дряхлого мужа, который, даже убедившись в обмане, принимает ласки молодой любовницы.
– Старый ревнивец! – она обняла его за плечи. – На этом столе прочитала я твою латинскую фразу…
– Кто бы тебя мог прочитать? – безрадостно вздохнул он.
– Неужели ты до сих пор меня не узнал?
И, чувствуя на себе ее тонкие, гибкие пальцы, теперь он мог лишь вспоминать, какой бывала она во время чистых их свиданий, прерываемых его отъездами в Рим и Венецию. Давно, в самом начале, когда принявшая постриг девица подвергалась тяжелейшему искушению, он до безумия упивался ее чарующей молодостью; однако всерьез задумываться над ее двусмысленными замечаниями он стал много позже. Теперь же, обессиленный, он вел борьбу за то, чтобы удержать ее при себе. О если б начало было иным! Он взял бы ее, как брал других женщин в своем путешествии по жизни, и скоро б оставил, однако получилось так, что эта авантюра на исходе его дней превратилась в вечную якорную стоянку в пустынном порту у пирса ледяной старости. Он попытался представить себе невинную послушницу, какой та была на пороге службы в архиепископском дворце, однако искушенная аббатиса, стоявшая сейчас рядом, отогнала бледное видение – робкой, неловкой, потрясенной своей горькой долей монашки, которая вступала в жизнь, бушевавшую за монастырскими стенами, теперь не существовало.
– Тогда ты была другой!
– Тогда?
– Да, доверчивой и прекрасной. К несчастью, наше время так противоречиво, что мы с каждым днем все больше и больше запутываемся сами в себе.
– Ты отступил первым!
Да, с тех пор как благодаря своему маленькому парусу он выплыл па безмерную глубину, он отошел ото всех. Увеличивалось расстояние, отделявшее его от священных стен, а тучи надвигались, и близилась буря. Один, с дрожащей свечкой в руках пробирался он, окутанный черным облаком, откуда сверкали молнии и громыхали раскаты грома. Даже самые мелкие враги на таком расстоянии утратили человеческий облик – оставались лишь злобные инфернальные силы. Молчание было здесь единственным спутником. Необходимо во что бы то ни стало избежать столкновения, выдержать до того момента, когда стая крылатых вестников взлетит с носа его корабля. Тогда никто не сможет ничего с ним поделать; его слово запишут на скрижалях истории.
– Судя по некоторым признакам, Фидес, Священная канцелярия знает о том, что я готовлю.
– И ты удивлен? – Ее дыхание коснулось его шеи. – Ты таинственно запираешься в своей библиотеке и любому, кто подвернется под руку, нашептываешь, что начиняешь порохом бочку и это вдребезги разнесет Рим.
– Ты смеешься?
– Епископ из Бара обвинил тебя перед канцелярией генерала. И князь Ториани…
– Откуда ты знаешь?
– Слышала от иезуита. Для чего, как ты думаешь, едет к тебе панский легат?
Он подозревал, что могло послужить причиной визита, и теперь сестра Фидес, каким-то образом посвященная в закулисную сторону событий, это подтверждала. Ее связи с иезуитами были неясными и подозрительными, да и все вокруг было взбаламучено и опасно. Молча смотрел он на ее руки, которые она сплела у него на груди. Словно две белые змейки, извиваясь, они всползали вверх в поисках сердца. Слишком поздно, избавиться от них нельзя. Аромат зрелой женской красоты уже отравил его. Усталым взглядом следил он за ее обнаженными руками. Они были гибкими и прекрасными, с узкими запястьями, длинными пальцами, крепкими суставами; буйную плоть скрывало монашеское одеяние. Женщина склонилась над ним, и он вспыхнул от прикосновения ее упругих грудей и ее обжигающего дыхания. Могучие порывы страсти утихали в его теле, однако он не имел сил покинуть эту женщину, испытывая все более возрастающий ужас при мысли о том, что погружается в бездну старости. Боязнь смерти оказывалась сильнее любовных инстинктов, от нее удавалось избавиться лишь в жарких объятиях Фидес, но это продолжалось недолго, и страх вновь овладевал им с удвоенной силой. Такова старческая любовь. Он познал это прежде времени, не умея больше отвечать на ласки неистовой женщины, желание которой возрастало в то время, как он миновал зенит. Дороги жизни уводили их в разные стороны, и разрыв грозил быть болезненным и тяжелым, потому что оба они были искренне привязаны друг к другу. Ее руки в страхе обхватили его плечи:
– Радуйся, что святой орден позволяет нам жить в грехе. Я для них представляю ценность лишь до тех пор, нока нужен им ты. Если ты погибнешь…
Да, она погибла бы наверняка. Так же крепко, как он за нее, она держалась за него. Жуткими были пути греховного наслаждения. Но они могли жить в грехе, исполненные раскаяния, ожидая наказания или милости от святого ордена. Своими жаркими руками Фидес душила его:
– Заклинаю тебя, Марк, сожги рукопись прежде, чем инквизиция постучит в двери. Конгрегация веры ни за что не пропустит ее. Уничтожь обвинение против самого себя!
– Двенадцать лет молчания говорят на этих страницах. Я стиснул зубы в ответ на папские послания, я перестал замечать преступления святого ордена, глупость императора…
– Да, милый, ты взялся за гусиное копьецо, которым можешь поранить лишь самого себя. Умоляю тебя, брось в огонь этот мешок брани!
– Если я это сделаю, я утрачу последние нравственные основы всех своих выступлений.
– В этих твоих основах содержится…
Она прикусила губу. И в этой ее зловещей недоговоренности он увидел нож наемного убийцы или костер инквизитора и почувствовал себя абсолютно безоружным. Произойдет самое страшное, если от него избавятся прежде, чем его завещание обретет реальную силу. Горячие пальцы женщины сомкнулись вокруг его шеи. Да, он мог бы повиснуть на каком-нибудь дереве у дороги. Папа в свое время послал с ножами двух наемных убийц к Паоло Сарпи в Венецию, и они ранили его, куда успешнее они выполнили б свое поручение в этой глуши.