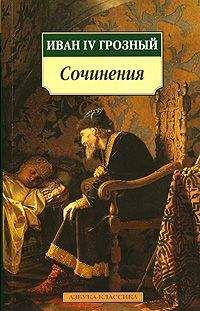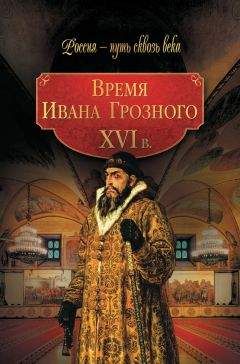Валерий Кормилицын - Держава (том третий)
В штабе Киевского военного округа Рубанов застал генерал–лейтенанта Карасса.
В отличие от Клейгельса, тот почтительно поздоровался за руку, удивлённо разглядывая форму одежды царского генерал–адьютанта.
— Клейгельс передал свою власть и полномочия военному начальству, — доложил Рубанову. — А именно — мне. Так как временно занимаю должность начальника военного округа. Но вот не счёл нужным ознакомить с состоянием дел, и представить личному составу администрации и полицейскому начальству. Посему нахожусь в весьма затруднительном положении. Сказав на прощание, что фамилия полицмейстера Цихоцкий, и произнеся сакраментальное: «Хотя я человек известных форм», исчез в неизвестном направлении, устранив свои формы от всех дел, — с удивлением воззрился на генеральский китель без погон, когда вестовой принял у Рубанова верхнюю одежду.
— Цитируя Салтыкова—Щедрина: «Комплекция у него каверзная…», — пошутил Рубанов.
Посмеялись.
— Прошу, закуривайте. Вот сигары, — предложил Максиму Акимовичу. — Своей властью поставил командира корпуса генерала Драке отправлять обязанности начальника охраны города. Вот потому–то, на данный момент, у нас существуют неопределённые взаимоотношения между военными и гражданскими властями. Боюсь, неясность положения повлечёт за собой общее расстройство в служебной деятельности. Я даже не знаком с объёмом своих полномочий, — стал жаловаться Рубанову, надеясь на его официальную подсказку, а может и руководство к действию. — Ко мне сегодня идут депутации. Одни требуют удаления из города войск. Другие — отдать команду стрелять…
«Я не имею права высказывать своё мнение. Скорее всего, он воспримет его как приказ, — попрощавшись с генералом, вновь поехал в пролётке по городу. — Как жаль — не Драгомиров генерал–губернатор. Он бы этого не допустил. Восприняли свободу — как вседозволенность. То же самое произошло и с автономией высших учебных заведений», — раздумывал над случившимися событиями, став свидетелем того, как у здания Думы бездейственно стояла полиция и рота пехоты.
А в Думе и рядом творилась просто вакханалия, под руководством гласного Шефтеля, кричащего из окна:
— Мы дали вам бога, дадим и царя… Теперь я ваш ца–арь!
У Максима Акимовича от ненависти сжались кулаки.
Тут подвалила из университета ещё одна галдящая толпа.
— Ваше превосходительство, одни евреи, что ли, в Киеве проживают? — глядел на несущих какого–то кучерявого довольного субъекта студентов.
— Только что мы освободили присяжного поверенного Ратнера, — указывая на довольного субъекта, картаво заорал с глазами навыкате, носатый брюнет. — Граждане, Николашке — каюк! — исчез он в думской зале, вскоре появившись на балконе, и принявшись рвать стоявшие там царские портреты.
Другие стали крушить императорские вензеля.
— Максим Акимович, вон какой–то еврей венок вокруг вензелей ломает, а солдаты глядят и бездействуют… Да что же это?! — страдал Антип.
Когда вместо царского лица в надорванном портрете появилось еврейское — какой–то студент просунул голову, заблеял и высунул язык, вызвав смех и восторг однокашников — свобода выражения мнений, у Рубанова терпение иссякло.
Да к тому же, опустив с плеч присяжного поверенного, его товарищи стали заставлять окружающих встать перед страдальцем на колени.
Сняв бекешу и оставшись в генеральском кителе, Максим Акимович подошёл к Ратнеру.
— Подержи! — бросил ему на руки бекешу, и тот безропотно принял её, хватая ртом воздух, и не умея что–то произнести.
Какой–то студент заорал с балкона: «Долой самодержавие–е–е…»
— Подумайте, что с вами будет, если они возьмут власть! — указал на него пальцем, обращаясь к солдатам и стоящим рядом с ними рабочим, мастеровым и мещанам, пришедшим поглазеть на невиданное зрелище. — Государь, по доброте своей, пошёл на невероятные уступки, предоставив народу большие права… И вот благодарность… Рвут его портреты и государственные флаги, а мы глядим на это и терпим, — забрал у растерянного Ратнера бекешу и пошёл к солдатам, на которых из окон стали плевать и кидать стулья.
Ударить, толкнуть или плюнуть в Рубанова никто из окружавших его студентов не посмел — столько внутренней силы и уверенности было в его словах и поведении.
Солдаты закрывали головы руками и терпели, не предпринимая никаких действий.
— Да что же вы не защищаетесь? — кричали из толпы рабочих и мещан.
Им стало обидно видеть поругание национальных святынь и издевательство над защитниками отечества.
Тут подъехал вызванный на усиление эскадрон драгун.
Распоясавшиеся студенты русской и еврейской национальностей, открыли огонь из револьверов, упиваясь своей силой и безнаказанностью.
И у солдат, наконец, иссякло терпение.
По окнам Думы дали залп и пехота, и подъехавшая кавалерия.
Второй залп ударил по злобствующей против солдат толпе.
Не ожидавшие этого демонстранты кинулись врассыпную, в ужасе побросав красные флаги и спешно избавляясь от металлических прутьев и ножей.
Поздно. Грань людского терпения они уже перешли. Весть о поруганных императорских портретах, об изорванных государственных флагах быстро разнеслась по городу.
Вечером на Александровской площади собрался народ с портретами государя и национальными стягами над головами. Направились к Крещатику, где разгуливали студенты с красными бантами в петлицах и с револьверами в руках.
До них ещё не дошло, что киевские рабочие, мастеровые и торговцы во всём обвинили их, как виновников думской демонстрации и бунтов в учебных заведениях.
Револьверы не помогли, а лишь усугубили ситуацию. Разъярённые люди безжалостно избивали этих сопляков, осмелившихся пойти против царя–батюшки.
Вожди, разумеется, моментально ушли в подполье.
Народ решил навести порядок так, как понимал это сам: «Бей врагов, спасай Россию».
Били в основном студентов и евреев: «Им государь свободу дал, а они над его портретами глумятся, нехристи», — кричали одни: «И что войну проиграли, радуются… Поздравительные телеграммы микаде слали… Так пусть захлебнутся своей свободой», — разошлись по улицам, колошматя стёкла в принадлежащих евреям магазинах и лавках, выбрасывая оттуда на тротуар товары.
Видя это, к демонстрации присоединялись огромные группы босяков и портовых грузчиков. Они понапрасну еврейские ценности не уничтожали, а распихивали по мешкам и сидорам: было ваше, стало наше.
Магазины не жгли. Случился один пожар на Подоле, да и то, видно, по случайности керосиновую лампу опрокинули.
Поздним вечером Рубанов проехал по аристократическому кварталу — Липкам.
— Вот, полюбуйтесь, господа. Полностью разгромлены особняки богатых евреев: барона Гинзбурга, Гальперна, Сашки и Лёвки Бродских, Ландау, — радостно загибал пальцы извозчик, сунув вожжи под зад. А сидел он на тюке дорогого бархата. — Всю мебель поломали, галантерею и модные пальто с лапсердаками изорвали и выбросили. Пусть знают, как против народа идти.
«Завтра все газеты напишут о погроме, заостряя внимание на разграблении еврейских квартир и торговых помещений, забыв написать, с чего это началось… Про разодранные государственные флаги и царские портреты, разумеется, будет полный молчок. Этого репортёры большинства газет не видели. Кроме тех, кто в «Киевлянине» работает. И как стреляли в солдат — тоже не напишут. Главное, что в результате пострадали евреи… Погромщики, разумеется, как этот извозчик, всегда найдутся, но для большинства народа — это битва за Россию. Народ не верит уже чинушам и бюрократам от власти. Не верит правительству, а верит себе и государю.
Днём 19 числа, наконец–то, Рубанов с Антипом отправились в Петербург.
Максим Акимович накупил газет, которые стали регулярно выходить и обличать власти. Радовала сердце лишь газета «Киевлянин».
Лёжа на мягком диване в купе вагона, он внимательно читал статью из этой газеты: «Кровь несчастных жертв, весь ужас стихийного разгула — падает на головы тех безумцев, которые вызвали взрыв и так бездумно оскорбили народные святыни…» — Мы с Антипом были свидетелями этих надругательств. Написано на основе реальных фактов, продолжил чтение: «Не говорите, что русский народ — раб. Это великий и любящий народ. Вы не понимаете его веры, вы не понимаете его любви, как он не понимает вас. Но он увидел, что вы предаёте поруганию символы его любви и веры. И ненависть против оскорбителей — разразилась в мести евреям, коих он счёл вашими соучастниками». — Да не соучастниками, а руководителями», — мысленно поправил автора Максим Акимович.
Добирались долго, и домой попали лишь 22 октября.
— Папа', — обнял его Аким. — Вечером прибудет и Глеб. Дал телеграмму с какой–то станции. Мама' не отходит от Ольги, — радуясь встрече, тараторил сын. — Со дня на день появится ещё один Максим Акимович, — разлил по сердцу старшего Рубанова медоточивый бальзам, замазавший прошлые трудности и неприятности.