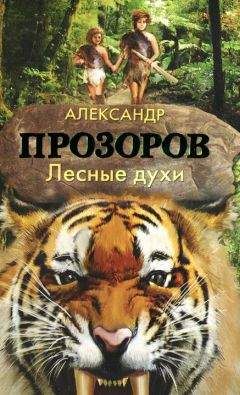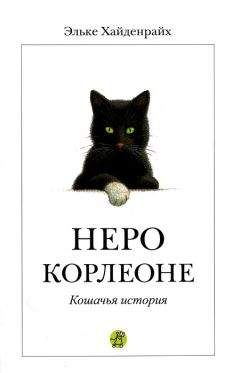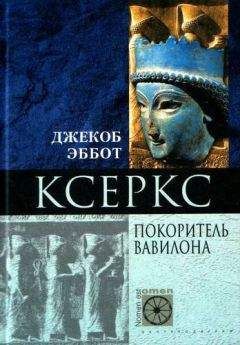Александр Григоренко - Ильгет. Три имени судьбы
— Почему идёшь со мной?
— Ты хочешь встряхнуть древо Йонесси. Мне это понравилось. Этого не делал никто.
— Пойдёшь против отца?
— Да.
— Чем же плох тебе Молькон?
— Долго живёт.
Сказав это, величественный Алтаней оторвал свою руку от руки Ябто и пошёл прочь.
* * *Ябто пришел туда же, откуда вышел, — в местность, расположенную в десяти днях ходьбы от летнего стойбища Нойнобы.
Там, где когда-то жила семья старика, его защищали разливающиеся равнинные реки и болота — непроходимые, покрытые не уходящими облаками гнуса.
То было рыбное место, и войско, забыв об оружии, мастерило снасти.
Ябто оставался безучастным к общим делам — лежал на шкурах и перебирал пальцами костяных птиц. Однажды он позвал Оленегонку и сказал:
— Ты обещал подарок. Воинам — женщин, а мне — заморыша. Возьми что тебе нужно и иди.
Ябто взглянул в эти умные глаза и поверил, что пройдет не так уж много времени, когда тот, кто сделал этих птиц, будет здесь, привязанный к дереву.
Моя вера
Оленегонка отправился выполнять обещанное широкому человеку, а главное — обещанное самому себе.
За время зимнего одиночества слух людей отвык от чужих голосов, и потому Являна чуть не умерла от страха, услышав свое имя из зарослей тальника. Голос, который произнес имя, был не чужой, а только забытый.
Они обнимались, терлись носами, как брат с сестрой, и тем же вечером в стойбище Девушка-Луч говорила словами Оленегонки.
— Просите мужчин, а пуще всех — Ильгета. Говорите все, все как одна, — мы хотим жирной рыбы, икряной рыбы, которую добывали наши мужчины, в месте чудном, в устье реки, куда эта рыба сходится. Нужно выйти к Йонесси и спуститься немного. Там, сестры, ждут нас богатыри в светлом железе, и у каждой будет свой очаг и свой муж, и так вернется жизнь, которую мы потеряли.
С того дня начали точить нас женщины тихим настойчивым воем.
Первым они уговорили Лидянга. Об этом месте он знал, ибо слова Оленегонки о береге в заливах и заводях, куда сходится рыба, были правдой.
Но старик колебался. Он оставался братом Хэно, и хотя временами ненавидел вдов, памятью крови был привязан к ним. Он хотел отвести их в земли родичей, а самому жить своей жизнью, которую уже обдумал от начала до конца.
Память о чуде — об исходе жителей могил в Семи Снегах Небесных — подавила его на долгое время. Но все же Лидянг замыслил вернуться на место великого стойбища и дожить свой век там, где зарыта его пуповина. Он решил сделать по-задуманному, даже если никто не захочет идти с ним и жить придется в одиночестве. Вещие слова о том, что земли Хэно навсегда будут отданы другим людям, теперь будили в нем только злость и мальчишеское желание сделать наоборот.
— Они правы, — сказал Бобер о женщинах, когда мы втроем сидели у костра и пекли на рожнах малых птиц. — Надо набраться сил, чтобы жить дальше.
Старик поднял голову и спросил меня, как чужого:
— Пойдешь с нами, Ильгет?
— Пойду.
— А потом? Потом — куда?
Я ответил, что теперь я человек, имеющий имя, племя и родовую реку, я человек, как все люди, и путь мой определен.
— Гнездо мое на древе Йонесси пустует и ждет меня.
Старик усмехнулся.
— Гнездо… Как найдешь его? Знаешь путь?
— Нет.
— Может быть, знаешь того, кто покажет?
— Да, знаю такого человека — как и то, что он считает меня виновником своих несчастий и хочет моей смерти.
— Вот видишь… Кто тебе поможет? Отыскать твое устье на теле Йонесси — все равно, что найти меченую иголку на сосне.
Мне стало горько, что старик, да, наверное, никто из людей не сочувствует моей вере. Я собрался духом и сказал:
— Судьба покажет.
— Судьба? Что ты знаешь о ней, совсем мальчик…
— Ты слышал сам, — заговорил я дерзко, — что не рождается человек без земли и пищи, иначе зачем же ему рождаться.
— Ты никогда не видел рабов и пленников?
— Видел. Сам был рабом.
— Тогда вспомни о них, вспомни о себе и пойми, насколько глупы твои слова и сам ты глуп.
— А чудо?
— Ах ты росомахин сын… Думаешь увидеть мертвецов — это чудо? Когда был жив наш шаман, он отгонял их от стойбища, как приблудных собак. Все норовили вернуться — так тосковали по хорошей жизни в семье Хэно. Мертвецы, если хочешь знать, такие же росомахины дети и рыбье дерьмо, как живые, — тоже не хотят жить, как живется, ищут лучшего. Доживи до моих сухих костей, поймешь это. Мы видели — ты творил необычные дела. Но ты не сможешь творить их по своей воле, когда тебе понадобится. И никто не сможет. Поэтому, пока жив, радуйся себе. Ты хоть и мал, да крепок. Радуйся жене — она у тебя красивая, другим на зависть. Вот братишка наш — старик кивнул в сторону воина Нойнобы — нашел несвежее мясо — и радуется.
Воин встал, плюнул под ноги Лидянгу и ушел. Его измучили обидные шутки старика о покорности вдове Передней Лапы. Лидянг, не заметив плевка, продолжал:
— Даже слепой радуется, потому что жив, просто жив. И это, мальчик, мудрость, которой в тебе нет.
Я не знал, что сказать в ответ. Ничего не было во мне, кроме злости на старика. Я злился, потому что правда его слов напала на мою веру и начала борьбу.
И еще одну правду знала Нара.
Женщины ее не трогали, хотя по-прежнему отделяли от себя. Но тайну — то, что Являна говорит словами Оленегонки — женщины не сберегли от нее. Пронзительный шепот Девушки Луч вылетел через дымовое отверстие нечистого женского чума и упал у ее ног.
Ночью Нара сказала мне:
— Нам не надо идти вместе со всеми.
— Не хочешь рыбы?
— Погибель нам будет. Приходил Оленегонка. Он хочет отдать твою жизнь человеку, о котором ты знаешь. Женщины будут умолять тебя идти, но ты не ходи, Ильгет.
Опять проснулась во мне злоба, и я сказал жене, что теперь судьба моя ясна, и если она назначила этот путь — надо идти и не бояться.
Нара обнимала меня, омывала слезами мое лицо и тело, повторяя: «Не будь врагом себе и мне», — и тем разжигала во мне еще большее зло.
— Мой враг тот, кто не верит в мою судьбу.
— Это слова, — плакала Женщина Весна, — а слова не стоят жизни, даже если они вещие.
Я и сейчас помню, как ослеп от этих слов. Я вскочил, схватил Нару за волосы, дважды ударил по лицу и отшвырнул в нечистую половину. Я оделся, я вышел из чума в густую ночь и лег на землю. Я глядел на звезды и слушал, как вдалеке мутными весенними водами грохочет река. Я ни о чем не думал, ничего не чувствовал, кроме того, что сделал что-то особенное и сделал сам.
Я вернулся. Огонь в очаге погас. Нара лежала там, куда я бросил ее. И я повторил, чтобы отогнать то, что убивало мою веру и порождало страх:
— Кто не верит в мою судьбу — тот враг. Не будь моим врагом, жена. Вставай.
* * *Я чувствовал — Нара говорила правду, но как поступить с этой правдой, я не знал. Во мне была только вера в мою судьбу, а она говорила: если твоим счастьем владеет один человек, надо идти к нему, даже если он твой враг. Но вера — не разум. Вера может погибнуть, если ей нечем защищаться от врагов. Моими врагами были все люди, потому что они не разделяли моей веры, и, наверное, жена была среди них.
Утром, когда мы двинулись в путь, она шла рядом и молчала. Ни злобы, ни обиды я не увидел в ней. Она шла покорно, опустив голову или рассеянно глядя по сторонам, и, казалось, не чувствовала огромных рук Йехи, лежащих на ее плечах, — она была поводырем великана.
Лодок у нас не было, мы шли вдоль берегов рек, вырастающих друг из друга, чтобы потом исчезнуть в одной великой реке.
После одной из ночевок меня объяла тоска, я сказал, что сегодня не пойду никуда, и женщины, неотрывно смотревшие на меня весь путь, не стали спорить со мной — они устали.
Я взял лук и пошел в лес, сказав, что добуду птиц. Воин Нойнобы вызвался идти со мной — не иначе по велению своей несвежей невесты, — но Лидянг сказал ему: «Пусть идет. Не трожь».
Я шел, не смотрел вверх, не искал добычу — я думал еще об одном враге, сильнейшем, чем люди, который подбирался к моей вере. Кто устроил так, что моя доля, мое место на древе, моя жизнь в руках одного человека, который хочет моей смерти? Эта мысль и была врагом.
В поисках оружия против него я вспоминал чудеса, бывшие со мною, но оружие оказалось слабым, потому что веру не понимают, а чувствуют — она отдается теплом в груди. Это тепло и есть вера. Я понимал, что Нара говорит правду, я видел, как люди, эти вдовы семьи Хэно, ведут меня, чтобы променять на свое счастье, так же как меняются вещами, но все равно шел, надеясь своим упрямством выманить теплое чувство веры, которая мне поможет.
Но вместо теплоты я чувствовал, как внутри меня разверзается черная яма, ее заполняют мутные воды страха и стыда.
И тут со дна этой ямы я услышал что-то, я услышал голос, похожий на скрип мертвого дерева. Голос окликал меня: «Эй, охотник… эй, охотник!»