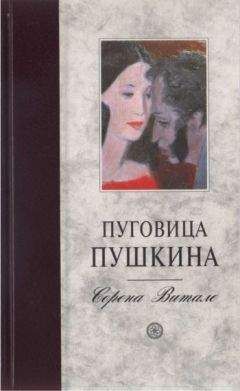Дмитрий Мережковский - Воскресшие боги, или Леонардо да Винчи
– Законы! – презрительно сморщила Фиордализа свои алые губки. – Как можете вы, мессере, в такой возвышенной беседе упоминать о законах человеческих – жалких созданиях черни, превращающих святые имена любовника и возлюбленной в столь грубые слова, как муж и жена?
Барон только руками развел.
А мессер Фрегозо, не обращая на него внимания, продолжал свою речь о тайнах небесной любви.
Беатриче знала, что при дворе в большой моде непристойнейший сонет этого самого мессера Антонниотто Фрегозо, посвященный красивому отроку и начинавшийся так:
Ошибся царь богов, похитив Ганимеда...
Герцогине сделалось скучно.
Она потихоньку удалилась и перешла в соседнюю залу.
Здесь читал стихи приезжий из Рима знаменитый стихотворец Серафино д’Аквила, по прозвищу Единственный – Unico, маленький, худенький, тщательно вымытый, выбритый, завитой и надушенный человечек с розовым младенческим личиком, томной улыбкой, скверными зубами и маслеными глазками, в которых сквозь вечную слезу восторга мелькала порой плутоватая хитрость.
Увидев среди дам, окружавших поэта, Лукрецию, Беатриче смутилась, чуть-чуть побледнела, но тотчас оправилась, подошла к ней с обычною ласкою и поцеловала.
В это время появилась в дверях полная, пестро одетая, сильно нарумяненная, уже не молодая и некрасивая дама, державшая платок у носа.
– Что это, мадонна Диониджа? Не ушиблись ли вы? – спросила ее дондзелла Эрмеллина с лукавым участием.
Диониджа объяснила, что во время танцев, должно быть от жары и усталости, кровь пошла у нее из носу.
– Вот случай, на который даже мессер Унико едва ли сумел бы сочинить любовные стихи, – заметил один из придворных.
Унико вскочил, выставил одну ногу вперед, задумчиво провел рукой по волосам, закинул голову и поднял глаза к потолку.
– Тише, тише, – благоговейно зашушукали дамы, – мессер Унико сочиняет! Ваше высочество, пожалуйте сюда, здесь лучше слышно.
Дондзелла Эрмеллина, взяв лютню, потихоньку перебирала струны, и под эти звуки поэт торжественно глухим, замирающим голосом чревовещателя проговорил сонет.
Амур, тронутый мольбами влюбленного, направил стрелу в сердце жестокой; но, так как на глазах бога повязка, – промахнулся; и вместо сердца —
Стрела пронзила носик нежный —
И вот в платочек белоснежный
Росою алой льется кровь.
Дамы захлопали в ладоши.
– Прелестно, прелестно, неподражаемо! Какая быстрота! Какая легкость! О, это не чета нашему Беллинчони, который целыми днями потеет над каждым сонетом. Ах, душечка, верите ли, когда он поднял глаза к небу, я почувствовала – точно ветер на лице, что-то сверхъестественное – даже страшно стало...
– Мессер Унико, не хотите ли рейнского? – суетилась одна.
– Мессер Унико, прохладительные лепешечки с мятой, – предлагала другая.
Его усаживали в кресло, обмахивали веерами.
Он млел, таял и жмурил глаза, как сытый кот.
Потом прочел другой сонет в честь герцогини, в котором говорилось, что снег, пристыженный белизной ее кожи, задумал коварную месть, превратился в лед, и потому-то недавно, выйдя прогуляться во двор замка, она поскользнулась и едва не упала.
Прочел также стихи, посвященные красавице, у которой не хватало переднего зуба: то была хитрость Амура, который, обитая во рту ее, пользуется этой щелкою, как бойницею, чтобы метать свои стрелы.
– Гений! – взвизгнула одна из дам. – Имя Унико в потомстве будет рядом с именем Данте!
– Выше Данте! – подхватила другая. – Разве можно у Данте научиться таким любовным тонкостям, как у нашего Унико?
– Мадонны, – возразил поэт со скромностью, – вы преувеличиваете. Есть и у Данте большие достоинства. Впрочем, каждому свое. Что касается меня, то за ваши рукоплескания я отдал бы свою славу Данте.
– Унико! Унико! – вздыхали поклонницы, изнемогая от восторга.
Когда Серафино начал новый сонет, где описывалось, как во время пожара в доме его возлюбленной не могли потушить огонь, потому что сбежавшиеся люди должны были заливать водою пламя собственных сердец, зажженное взорами красавицы, – Беатриче наконец не вытерпела и ушла.
Она вернулась в главные залы, велела своему пажу Ричардетто, преданному и даже, как порой казалось ей, влюбленному в нее мальчику, идти наверх, ожидать с факелом у дверей спальни, и, поспешно пройдя несколько ярко освещенных многолюдных комнат, вступила в пустынную, отдаленную галерею, где только стражи дремали, склонившись на копья; отперла железную дверцу, поднялась по темной витой лестнице в громадный сводчатый зал, служивший герцогскою спальнею, находившейся в четырехугольной северной башне замка; подошла со свечою к небольшому, вделанному в толщу каменной стены дубовому ларцу, где хранились важные бумаги и тайные письма герцога, вложила ключ, украденный у мужа, в замочную скважину, хотела повернуть, но почувствовала, что замок сломан, распахнула медные створы, увидела пустые полки и догадалась, что Моро, заметив пропажу ключа, спрятал письма в другое место.
Остановилась в недоумении.
За окнами веяли снежные хлопья, как белые призраки. Ветер шумел – то выл, то плакал. И древнее, страшное, вечное, знакомое сердцу напоминали эти голоса ночного ветра.
Взоры герцогини упали на чугунную заслонку, закрывавшую круглое отверстие Дионисиева уха – слуховой трубы, проведенной Леонардо в герцогскую спальню из нижних покоев дворца. Она подошла к отверстию и, сняв с него тяжелую крышку, прислушалась: волны звуков долетели до нее, подобные шуму далекого моря, который слышится в раковинах; с говором, с шелестом праздничной толпы, с нежными вздохами музыки сливался вой и свист ночного ветра.
Вдруг почудилось ей, что не там, внизу, а над самым ухом ее кто-то прошептал:
«Беллинчони... Беллинчони...»
Она вскрикнула и побледнела.
«Беллинчони!.. Как же я сама не догадалась? Да, да конечно! Вот от кого я узнаю все... К нему! Только как бы не заметили?.. Будут искать... Все равно! Я хочу знать, я больше не могу терпеть этой лжи!»
Она вспомнила, что Беллинчони, отговорившись болезнью, не приехал на бал, сообразила, что в этот час он почти наверное дома один, и кликнула пажа Ричардетто, который стоял у дверей.
– Вели двум скороходам с носилками ждать меня внизу, в парке, у потайных ворот замка. Только смотри, если хочешь угодить мне, чтобы никто об этом не знал – слышишь? – никто!
Дала ему поцеловать свою руку. Мальчик бросился исполнять приказание.
Беатриче вернулась в опочивальню, накинула на плечи шубу, надела черную шелковую маску и через несколько минут уже сидела в носилках, направлявшихся к Тичинским воротам, где жил Беллинчони.
VIIПоэт называл свой ветхий, полуразвалившийся домик «лягушачьей норою». Он получал довольно много подарков, но вел беспутную жизнь, пропивал или проигрывал все, что имел, и потому бедность, по собственному выражению Бернардо, преследовала его, «как нелюбимая, но верная жена».
Лежа на сломанной трехногой кровати, с поленом вместо четвертой ноги, с дырявым и тонким, как блин, тюфяком, допивая третий горшок дрянного кислого вина, сочинял он надгробную надпись для любимой собаки мадонны Чечилии. Поэт наблюдал, как потухают последние угли в камине, тщетно стараясь согреться, натягивал на свои тонкие журавлиные ноги изъеденную молью беличью шубенку вместо одеяла, слушал завывание вьюги и думал о холоде предстоявшей ночи.
На придворный бал, где должны были представить сочиненную им в честь герцогини аллегорию «Рай», не пошел он вовсе не потому, что был болен, – хотя в самом деле уже давно хворал и так был худ, что, по словам его, можно было, рассматривая тело его, изучать анатомию всех человеческих мускулов, жил и костей. Но будь он даже при последнем издыхании, все-таки потащился бы на праздник. Действительной причиной его отсутствия была зависть: лучше согласился бы он замерзнуть в своей конуре, чем видеть торжество соперника, наглого плута и пройдохи, мессера Унико, который нелепыми виршами успел вскружить головы светским дурам.
При одной мысли об Унико вся желчь приливала к сердцу Беллинчони. Он сжимал кулаки и вскакивал с постели. Но в комнате было так холодно, что тотчас же снова благоразумно ложился в постель, дрожал, кашлял и кутался.
– Негодяй! – ругался он. – Четыре сонета о дровах, да еще с какими рифмами – и ни щепки!.. Пожалуй, чернила замерзнут – нечем будет писать. Не затопить ли перилами от лестницы? Все равно порядочные люди не ходят ко мне, а если жид-ростовщик свихнет себе шею – не велика беда.
Но лестницы он пожалел. Взоры его обратились на толстое полено, служившее четвертой ногой хромому ложу. Остановился в минутном раздумье: что лучше – дрожать всю ночь от холода или спать на шатающемся ложе?
Вьюга завыла в оконную щель, заплакала, захохотала, как ведьма, в трубе очага. С отчаянной решимостью выхватил Бернардо полено из-под кровати, разрубил на щепки и стал бросать в камин. Пламя вспыхнуло, озаряя печальную келью. Он присел на корточки и протянул посиневшие руки к огню, последнему другу одиноких поэтов.