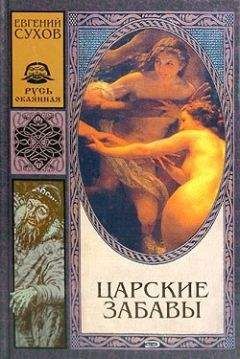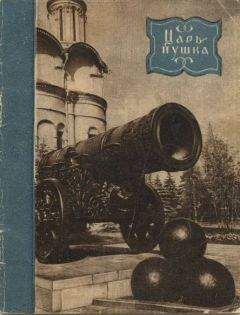Людвиг Филипсон - Яков Тирадо
Во второй сцене появились две милые женские фигуры – госпожа и служанка, из которых первая – предмет увлечения многих молодых людей. Легко и остроумно смеется она над претендентами на свою руку, метко характеризуя каждого из них, и при этом самым деликатным образом обнаруживает свою глубокую любовь к уже знакомому нам венецианцу, которого она до сих пор напрасно надеялась встретить в числе своих почитателей. Все это изображалось так комично, живо и остроумно, что восторг и напряженное внимание Марии росли с каждой минутой. Как не полюбить этих благородных мужчин, этих милых женщин?! Как не отнестись к ним с глубочайшим сочувствием?! Глаза Марии сверкали от наслаждения зрелищем, и королева, порой взглядывающая на нее, видела пока лишь вполне удачное осуществление своего плана. А Мария с величайшим нетерпением дожидалась дальнейшего развития действия…
Третья сцена снова перенесла зрителей туда, где происходила первая. Бассанио, друг купца, нашел человека, который может ссудить требуемую сумму. Но что это за человек! Грязный, гнусный скряга, таящий в сердце глубокую ненависть к Антонио (так зовут купца). И он имеет основания ненавидеть его. Антонио неоднократно ругал его, всячески поносил, топтал ногами, при всех плевал ему в лицо, он называл профессию этого человека мерзким лихоимством; мало того – он дает деньги, очень большие деньги взаймы, без всяких процентов, и этим причинил уже ростовщику много вреда и убытков. Эта ненависть имеет, однако, и более общий характер, ибо скряга Шейлок терпеть не может всех христиан – точно так же, как они ненавидят его «избранный народ». Шейлок – еврей. Но вот появляется и сам Антонио, и между ним и ростовщиком немедленно завязывается бранный разговор, в котором оба объясняют друг другу причины своей взаимной ненависти. Но Шейлок в то же время хочет быть великодушным, он готов ссудить три тысячи червонцев, ссудить без всяких процентов – только пусть Антонио подпишет обязательство, что если деньги не будут уплачены в срок, то Шейлок имеет право вырезать у купца фунт его мяса. Антонио с веселым смехом соглашается на это условия, потому что принимает его за шутку и притом знает, что возвратит эти деньги гораздо раньше срока. Но у его врага иные соображения: он помнит о ненадежности моря, об опасностях, которым подвержено в этой стихии все добро человека. Так заканчивается первое действие.
Подобно тому, как ледяной северный ветер внезапно задует в жаркий летний день, или струя холодной воды неожиданно ударит в разгоряченное лицо, – так последняя сцена подействовала на Марию. Все поры ее духа были раскрыты для того, чтобы он упивался очаровательным дыханием искусства – и вот вдруг врывается в эту атмосферу ядовитый запах такой личности, такого характера, такой гнусной страсти. И эта личность – еврей, представитель ее племени, исповедующий ту веру, которой она отдала всю свою душу, за которую она рискнула своей жизнью, своим положением, своими родителями, – веру, открыто исповедовать которую ей хотелось так жадно, что для получения этой возможности она подвергла себя всем опасностям ночного бегства и дальнего странствия! Холодная дрожь пробежала по ее жилам, судорога сдавила горло… Но во время антракта, под шумный говор публики она пришла к более успокоительным мыслям. Не шутка ли это на самом деле? И появится ли рядом с этим чудовищно испорченным сыном ее народа другой, более достойный его представитель? И она с нетерпением стала ждать его появления. Веселые, остроумные сцены, следовавшие теперь одна за другой, уже не доставляли Марии никакого удовольствия, они даже казались ей какими-то пустыми и искусственными. На нее мало подействовал выход на сцену слуги-еврея, который стал пускать стрелы остроумия в своего отсутствующего господина. Но вот появилась и дочь Шейлока. Из ее слов видно, что у нее завязалась тайная интрига с одним христианином, веселым малым; через слугу посылает она к нему письмо, в котором дает согласие на свое похищение и уславливается о подробностях этого дела. Она решает бежать от своего отца и стать христианкой. В разговоре с отцом она не обнаруживает ни малейшей тревоги, ни малейшего волнения совести; когда он уходит, она бездушно кричит ему вслед:
Прощайте! И коли мне захочет Бог помочь —
Лишаюсь я отца, вы – потеряли дочь!
Похищение состоялось, но девушка уходит не одна. Она уносит с собой шкатулку с драгоценностями и деньги – а между тем тут же очень стыдится переодеться в платье пажа, которое должно облегчить ей побег. Между украденными вещами находится даже обручальное кольцо ее отца, и она некоторое время спустя отдает его в уплату за купленную ею обезьяну! И несмотря на все это, выставляется она в пьесе добродетельной, верной и милой девушкой! Мария Нуньес была страшно рассержена, возмущена, находилась в таком состоянии, какого еще не испытывала ее чистая душа. Она чувствовала, что здесь автор не имел в виду никакой отдельной характеристики ее народа, даже никакой карикатуры на него, – тут было полное, сознательное стремление представить всех членов еврейского племени пошлыми, отвратительными чудовищами, придать гнусность всем явлениям их жизни и, таким образом, сочетать ненависть и предубеждение против них с беспредельным позором их действий и этими последними оправдать первые. Как! Преступной рукой хотят сорвать даже драгоценнейший клейнод, украшающий голову Израиля – неприкосновенную семейную любовь, чистое семейное счастье!.. И это тоже хотят растоптать и вымазать грязью?! Гений искусства, едва явившись благородной и развитой душе девушки, теперь представлялся ей укутанным в будничные одежды чисто человеческих страстей. В этой зале, в этом месте, где на народ должны были действовать облагораживающим, воспитательным образом – вся сила гения употреблялась на служение дикой ненависти, отрицанию всякой истины, самой грубой несправедливости!.. Таковы были впечатления, охватившие душу Марии Нуньес. Сердце ее сильно стучало, пульс лихорадочно бился, дыхание разгорячилось, руки и лоб покрылись холодным потом; она откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Елизавета посмотрела на нее, заметила состояние, в котором та теперь пребывала, и с удовольствием подумала, что победа одержана. Да разве может кто-либо проникнуть в душу человека и увидеть творящееся в ней?
Все, что потом происходило на сцене, так мало интересовало Марию, что она не замечала этого. Только те места, которые касались главного предмета пьесы, приковывали ее внимание, усиливали ее тревожную напряженность. Насмешки, которыми действующие лица осыпали Шейлока, горько сокрушавшегося о потере дочери и стольких драгоценностей, бессердечность другого еврея, появившегося в одной из этих сцен – укрепили в Марии Нуньес убеждение, к которому она уже пришла. Но вот начались главные сцены драмы. Антонио потерял все свое состояние, он не может уплатить долг, срок векселя истек. Еврей сажает его в тюрьму, все просьбы, льстивые увещевания и угрозы, предложение Бассанио возвратить занятые деньги в тройном размере из приданого его невесты, ходатайство дожа и сенаторов – все остается напрасным: Шейлок желает вырезать фунт мяса из сердца Антонио. Сцена суда проходит во всей своей мучительной отвратительности, пока юридическая загадка не разрешается остроумной кляузой: пусть Шейлок берет свой фунт мяса, но за всякую пролитую при этой операции каплю крови и за каждую лишнюю сверх условленного фунта частичку мяса он поплатится своей жизнью. В заключение у него, в виде наказания за преступный замысел, конфискуют все состояние, которое тут же присуждается его дочери, мало того – его заставляют перейти в христианство, и он исполняет это по первому же требованию… Мария ожидала этой развязки. Она уже не поразила девушку так сильно, как это могло случиться чуть раньше, и не лишила ее возможности справиться с собой, сохранить присутствие духа. Нет – говорила она себе – это не евреи! Она бегло вспомнила все прожитое, виденное и прочитанное ею с первой минуты пробуждения в ней самосознания – и во всем этом не могла найти никакой точки опоры, никакого оправдания этим людям и их поступкам. Но она вдруг нашла их в других воспоминаниях. Теперь перед ее глазами проходили кровавые истязания, бесчеловечные преследования, гнусные злодеяния, она видела, как они совершались в тюрьмах, перед судилищами, на лобных местах, открыто – на площадях и тайно – в казематах, но совершались над евреями, которые не могли ничем воздать за них, врагами этого народа, часто по побуждениям низкой корысти и с помощью коварных интриг и подлых происков. Участь, постигшая всех ее друзей, представляла тому множество примеров. Образ ее благородной матери возник перед ней и неясно воскликнул: «Не верь им!» Она вдруг увидела перед собой умирающего отца, и он тоже прошептал ей слабеющим голосом: «Не верь им!» Предстал перед ее глазами и преданный друг, посвятивший свою жизнь спасению христиан и евреев, стремящийся связать их судьбы и освободить человечество от зла, и из его груди тоже вырвался крик: «Не верь им, Мария! Все было как раз наоборот и с тем еще добавлением, что вырезавшие из нашего сердца мясо не боялись при этом пролить несколько капель крови!»