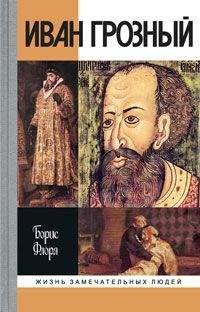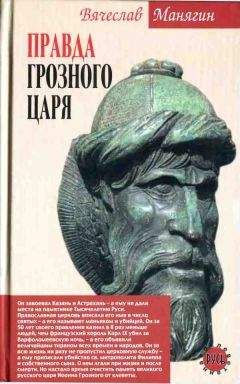Авенир Крашенинников - Затишье
«А капитан поклялся осенью испытать пробное орудие», — подумал Костя.
Мирецкий же согласно кивнул, словно любые сроки вполне его устраивали. Полковник проводил их до ворот.
— Теперь смотрите, — оказал Косте Мирецкий и направился к заводу. — В этом лучшем из миров же продается и покупается. То, чем мы сейчас заняты, ломаного гроша не стоит, и я просто показываю вам зверинец. Мне же приходится плавать с такими акулами, в зубы которых страшатся попасть даже генеральные канцлеры и эрцгерцоги. Там идет крупная игра, ставка — собственная голова и десятки других в придачу.
Литейный цех содрогался стенками, и щеки человека, сидевшего за железною перегородкою в конторе, чуть колебались. Он почесал кончиком ручки желтую крышу волос, полистал толстую книгу, деловито принял от Мирецкого деньги и сказал бабьим голосом, что через неделю непременно и в аккурате все господин Воронцов получат.
Вечером поручик пригласил Костю прогуляться. Бочаров отказался: хотелось в постель.
— Добро же, — шутливо пригрозил Мирецкий, — если гора не идет к Магомету…
Костя взобрался на кровать. В окошке совсем стемнело, будто дымная туча припала к самому стеклу. Он задернул полог, сунул руки за голову. Все реже и реже вспоминал Костя выдуманного им самим бога, и на этот раз только ворочался в постели, стараясь уместиться поудобнее чуть ли не сидя: слишком рыхлой она была. На виске больно колотилась жилка, перед глазами кружился перекошенный зев литейной.
Коридор загремел разгульными голосами, дверь отлетела к стене, хлопнула, и в нумер с топотом вторглись люди.
— Спит сном праведника, — сказал Мирецкий, — зажигайте все свечи!
За пологом стало желто. Костя вскочил, выпутался из тяжелых складок.
— Прошу любить да жаловать, — раскланялся поручик.
Лицо его словно одеревенело, зрачки — с горошину, но на ногах держался крепко.
— Салфет! — прокричал, покачиваясь на каблуках, румяный человечек в растрепанной бороде.
Еще лицо — козлиное, волосы — двумя рогами с боков над лысиной. И две дамы.
Костя опомнился, схватил со стула одежду, нырнул за полог. Выходить было страшно. А снаружи уже бренчала посуда, хлопали пробки, звоночками сыпался женский смех…
Одна, колебля станом, играя тонкого выреза ноздрями, шла к Бочарову с бокалом вина. Глаза влажно мерцали из-под прикрытых ресниц, под ними — тени.
Дальше — провалы и взлеты, запахи женского пота и духов, звенящее кружение стен.
— Какая прелесть: он зовет меня Наденькой!
Влажные губы на его губах, козлиная бородка перед носом.
— Идите прочь!
Из-под бородки мерзкий голос:
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю!
— Провинция в провинции! Ску-ука! Пир во время чумы, господа.
Костя ладонью давит, отталкивает козлиную бородку, локтем бьет поручика в живот. Темный длинный коридор несется навстречу, мелькает лестница, обжигает холод. Звезды бросаются в лицо, колют, впиваются. Возникают и пропадают голоса, и — провал, в который, покачиваясь, падает осенний листок…
Дышать тяжело, пахнет землей. Костя, открывает глаза. Над ним доски, под ним какое-то тряпье. Там, где ноги, красноватый свет то разгорается, то притухает. В гробу, что ли? Головой не двинуть, молотком колотит боль. Внутри мелко-мелко дрожит, словно оторвалось что-то и еле держится на ниточках. Костя зажмуривается. Голоса, которые только что воспринимались отдаленным жужжанием, стали отчетливее.
— Верили, — хрипло, с натугой, будто выжимая из себя, сказал один, — Кокшарову к царю письмо давали. Губернатору поверили, Хирьякову поверили. А что вышло?
— То и вышло: до сих пор сидеть не могу, — подхватил другой мягким слабым тенорком.
— Башкой надо было думать. Мартемьян-то говорил, звать соседние заводы. Ку-уда? Потянули кто в лес, кто по дрова.
— Жалко Мартемьяна, Ивана Шатова, Сушина… За всех сгибли.
— За всех. Пальцы в растолырку — не кулак.
Голоса замолкли, кто-то тихонько, будто во сне, постанывал.
— Никак пробудился, — сказал тенорок. — Эй, господинчик, слазь!
Ногами вперед, еле дыша от боли, Костя сполз на дощатый пол. Барак. Нары, занесенные холстинами, несколько печек, жарко натопленных, деревянные длинные столы и лавки. Из-за одной занавески торчат босые ступни, расплывчатые в мутном полусвете, и кто-то стонет. А перед Костею — двое мастеровых: коряжистый, лохматый, в длинной до колен рубахе, и безбородый, желтый, как кость, будто высушенный печным жаром, в треухе и котах на босу ногу. У лохматого правая рука в лубке, из тряпицы мертво торчит большой палец. Безбородый опирается обеими руками на батожок, и медным шлаком странно поблескивают его глаза. Барак, наверное, из тех, что видел Костя снаружи. В памяти пустота, и нет ни страха, ни удивления.
— Кто такой? — вопрошает лохматый. — Говори.
— Да усади ты его, Иван, по-христиански, — вступается безбородый, протягивая руку в пространство.
— Откудова? — подступает лохматый, а Косте кажется, что и рта не раскрыть.
— Из Перми я, из Мотовилихи, — еле выговаривает он.
— А пошто в снегу ночуешь? Жить устал?
Как трудно дышать. Смрадный, опертый воздух в бараке, хоть и нету людей. Тяжело соображая, Костя рассказывает, что послали его сюда, на завод, добывать изделия для строительства.
— Кажи бумагу.
Все бумаги и деньги у поручика Мирецкого. Костя опустил голову.
— Ладно, господинчик, твое счастье, что наши подобрали. — Лохматый вытащил с нар бутылку, у дна которой поплескивала мутная жидкость, подолом рубахи протер кружку, налил. — Спасайся.
Костя глотнул, сжав зубы, не дыша, сдержал спазму.
— На здоровье, — сказал безбородый, нащупал лавку, сел. — Строитель, значится?
— Усердствуют мастеровые-то? — понимающе кивнул лохматый.
— Еще как, — ответил Бочаров; боль в голове притупилась. — Стараются.
— Гроб себе сколачивают.
Стоны за холстинкой усилились. Лохматый исподлобья поглядел на торчащие ступни:
— Болванкой его приземлило… Ну, ступай, господинчик, а то, не ровен час, увидают тебя с нами, затаскают. Живем мы тут, как на каторге.
— Солнышка не видим, — поддакнул безбородый.
— Мы-то, может, еще и увидим, а тебе вот и помышлять нечего.
— А я шкурой его почую, — беззлобно улыбнулся безбородый, — она у меня зрячая.
— Спасибо вам, — сказал Костя. — Ничем иным отблагодарить, к сожалению, не могу.
Мастеровые никак к этому не отнеслись. Костя откинул полог, прикрывающий вход, толкнул забухшую дверь. Все тело хватануло холодом. Сунув руки в рукава сюртука, побежал он по дороге; редкие прохожие с удивлением оглядывались.
Ни внизу, ни в коридоре никто не встретился. Дверь в нумер оказалась не запертой. Стол — в опрокинутых бутылках, в объедках, в липких лужах. Запах вина, тошнотворный запах. Костя метнулся к умывальнику.
Вошел поручик Мирецкий, в чистом сюртуке, гладко выбрит, от вчерашнего — ни следа.
— Зачем вы это сделали? — крикнул Костя, поднимая мокрое лицо.
— Пора отбывать, — сказал Мирецкий. — Сейчас подадут лошадей. — Он не спрашивал, где ночевал Бочаров.
— Зачем вы это сделали? — У Кости стучали зубы.
Поручик властно взял его под руку, повлек в свой нумер. На столе стояла початая бутылка, прибор с какой-то едой.
— Выпейте и придите в себя!
Бочаров с отвращением проглотил терпкую жидкость, поручик протягивал на вилке кружочек огурца. И стерлось, стушевалось недавнее, стало легко, Бочаров улыбнулся:
— Вы знаете, я очутился в бараке. Славные люди… Какие славные люди!
— Вы не умеете пить, Константин Петрович!
— Ну и что, ну и что? Зато я умею видеть солнце. Кожей!
Мирецкий пожал плечами. Оделись, спустились вниз, слуга подал чемоданы. Лошади всхрапывали, из ноздрей — струйки пара. По лошадиным катышкам прыгали черномазые воробьи.
— Не знаю, полюблю вас или воз-не-на-вижу, — заплетающимся языком выговорил Костя.
Мирецкий закутал его ноги, навалилась мягкая дорожная дрема. Возница оглянулся на город, замычал, не разжимая губ, унылый мотив.
На дороге, впадающей в тракт, завиделись солдаты в седлах, багровыми пятнами лица, стволы ружей за плечами. За солдатами, скользя, спотыкаясь, брели мужики в рванине, иные без шапок. Отрешенные землистые лица, настывшие бороды. В опущенные затылки паром дышали кони замыкающих верховых.
Мирецкий не стал трогать Бочарова: пускай спит.
По зеленому от закатной луны снегу шла работать Мотовилиха. Уши у шапок опущены, борода кой у кого спрятана в тряпицу, на тряпице — куржак. Студено: снег визжит под котами, чириками и валенками; волоски в ноздрях прихватывает.