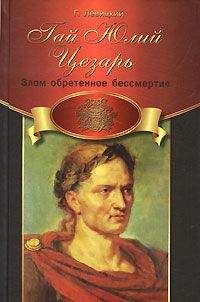Виталий Амутных - Русалия
— Василевс Роман изъявил желание сложить с себя ставший с годами непосильным груз автократорства и посвятить остаток своей жизни служению Господу нашему Иисусу Христу вдали от суеты Дворца и столицы. По его просьбе он будет доставлен на остров Прот, где под сенью монастыря в тиши монашеской кельи сможет осуществить свои мечты. В связи с этим права первого из василевсов Ромейской державы…
— Выродки! — дребезжащей старческой фистулой зазвенел голос поверженного царя. — За пестрые одежды, за чрезмерные трапезы и постыдные удовольствия продаете вы своего отца. Иуды!
— Василевсу пришлось прервать свой сон… — обращаясь к разномастному собранию людей, темными кучками разбросанных в призрачном золотом мерцании пространства, попытался остановить отца Стефан, — И он торопится оставить Дворец. Лишь только новый автократор произнесет свое напутственное слово…
— Иуды! — вновь заголосил Роман, пытаясь высвободиться из суровых тисков удерживавших его рук, при этом то и дело вскидывая свою разлохмаченную седую голову. — Это мои сыны? Моя кровь? Не долго же вам предаваться разврату! Я проклинаю, проклинаю…
Мир в глазах Константина буквально переворачивался, рождая воспоминания о некогда читанных бреднях одного еврейского сочинителя, именем Иоанн. Действительность смешивала свои составы, предметы обменивались частями, и среди всей этой муторной кутерьмы в изнемогающем сознании Константина пробуждалось видение некоего престола под чашей золотого неба. Сам престол был сложен из цветных камней, из ясписа, из сардиса, а вокруг было еще что-то зеленое сверкающее, вероятно, крытое смарагдами. А на том драгоценном каменном стуле сидело чудище, облаченное в подир[250], видом своим ужасно: длинные волосы его были белы, вместо глаз полыхали два факела, а изо рта выходил длинный обоюдоострый меч… И в полном соответствии с еврейской страшилкой, у ног того грудились дедки-священники в белых одеждах вперемежку с какими-то невиданными животными, и только те животные принимались выть либо мычать, как все старики падали ниц перед каменным стулом и принимались пронзительными еврейскими голосами вопиять: «Достоин ты, Господи, приять силу и честь и славу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Опять воют животные, — и вновь: «Достоин ты, Господи, приять…» И воззвало чудовище к Константину: «Тебе нравится блеск этих драгоценных камней, тебе приятен вечный свет золота? Все это — я, а я есть альфа и омега! Я — царь царей и Господь господствующих. Не бойся меня. Для тебя я сегодня зажег эти семь золотых светильников. Веришь в мою силу? Смотри, вот я посылаю на землю град и огонь, смешанные с кровью, — пусть сгорит третья часть деревьев и трав. Вот огненную гору я низвергаю в море, — пусть третья часть всех вод станет кровью, и третья часть всех судов пойдет на морское дно. А вот я направляю с небес на землю звезду-полынь, чтобы отравить третью часть рек и всех источников. Отчего? Да для того, чтобы изжить тех, кто в страхе своем назвали себя иудеями, но на самом деле не отдали мне, новому царю иудейскому, свои души. Тоже будет и с тобой, ежели вздумаешь мне противиться. Когда же отдашься мне всем сердцем, — дам тебе власть над другими народами, будешь пасти их жезлом; в случае же неповиновения, — сокрушишь их, как сосуды глиняные. Так что же скажешь?!»
— Господу нашему Иисусу Христу и отцу его и святому духу слава и держава во веки веков! — в ужасе возопил Константин, и тотчас оказался вновь в прежнем окружении; множество глаз было устремлено на него, и в каждой их паре читалось нетерпение поскорее заполучить свой кусок только что освежеванной добычи.
И тогда первое дуновение надежды легко коснулось его воспаленного мозга… Вместе с тем ничего грандиозного не произошло, просто ему вдруг отчего-то стало несколько легче дышать, да еще лицо Романа вдруг перестало казаться таким уж адским: этот громадный наглый нос, в котором будто сосредотачивалась вся нечеловеческая воля этого человека, как-то обвис, и потух блеск щетины на скулах, и царственные очи стали глазами никчемного старичишки.
— Видимо, нелегко было сделать такой выбор, — говорил Константин, все увереннее возвращаясь взглядом к глазам, некогда гибельно магнетизировавшим его. — Но любой крещеный человек знает, что нет достойнее занятия на земле, чем непрестанное вознесение хвалы Всевышнему.
Он осенил себя крестным знамением, и все последовали его примеру.
— Мы благодарны тебе за все, что сделал ты для Ромейской державы: ты возвел от основания церковь и монастырь святого Пантелеймона, ты восстановил и сделал прекраснее прежнего монастырь Мануила, ты отстроил немало прекрасных городов в Македонии и Фракии, ты всегда заботился о стариках и неимущих, странниках и убогих, сооружая для них приюты и гостиницы. И за это, несомненно, воздастся тебе в твоей новой жизни.
Крестное знамение.
— Любуясь тобою созданными дворцами и тобою взлелеянными великолепными лугами, мы всегда будем вспоминать твое усердие, положенное во благо нашей державы. А ты в это время совместно с благочестивейшим Полиевктом и своим духовным отцом — сиятельным Сергием будешь молить Господа за нас, грешных, пока только мечтающих о такой возвышенной жизни. Я же и твои сыновья, возглавив державу, не пожалеем усилий, чтобы она как всегда восхищала наших друзей и страшила наших врагов, раз уж на нас возложена свыше забота о ней. Ведь, как говорил в святом благовествовании Иоанн: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба».
На лице Романа Лакапина по рытвинам морщин, словно по оросительным каналам поля, бежали потоки слез, скапливаясь в короткой седой бороде, и капая-капая-капая на восточный орнамент многокрасочного каменного пола. Видимо, не только Константин был впервые свидетелем слез этого еще совсем недавно железного человека.
И вновь движение завладело пространством, оно подхватило и самого Константина, несло вместе с какими-то людьми сквозь отбивавшую торжественный ритм геометрию архитектуры, заплетало в причудливые орнаменты, смешивало реальных людей с их обобщенными живописными силуэтами, пока наконец не доставило его, уже едва не терявшего сознания от психического изнеможения, в спальную. В дополнение к общему устатку отвратительно заныла печень, к тому же отчего-то начало пучить живот, и злосчастный василевс алкал только одного, — поскорее добраться до ложа, остаться одному и забыться целительным сном. До ложа ему добраться задалось, но напитавшее Дворец оживление ни в какую не хотело отпускать его от себя. Едва жидким седалищем он коснулся мягких тюфяков, как в его покои решительным шагом вступила жена Елена вместе со своим братом, младшим из вероломных сыновей Романа — Константином.
Маленькая толстенькая Елена подсела к мужу на край широкого лежака, совмещавшего черты римского ложа и восточного дивана, взяла его вялую руку в свои ладони и, заглянув в его отсутствующие полумертвые глаза, пролопотала сладким голосом:
— Устал, мой повелитель? Сейчас мы уйдем, и ты уснешь крепким-крепким сном.
Константин встрепенулся, — в словах жены ему почудилась какая-то недобрая двусмысленность. Но Елена продолжала гладить его руку, а брат ее стоял напротив, время от времени нервно переминаясь с ноги на ногу. Был он ростом пониже Стефана, но выше своего отца. И хотя в лице его без труда обнаруживались характерные для всех Лакапинидов черты, — крупные любострастные губы, жадно раздувающийся при дыхании массивный нос, смоляная со звонким серебряным отливом обсидиана густая поросль на лице, переливчатая поволока глаз, — характера он был весьма отличного; порывистый в движениях, неуравновешенный, в любой момент от него можно было ожидать непредсказуемой выходки.
— Отца повезли на остров, — говорила Елена. — Надеюсь, там, в Гавани Офра, ему не будет слишком одиноко. В конце концов еще в дни своего процветания он возвел этот монастырь, постриг туда восемьсот монахов, положил им хорошее жалование, и, мне кажется, предусмотрительно отдал его в руки этого… брата магистра Косьмы… Сергия! Он не может не быть отцу благодарен. Хотя… конечно, нас ценят и любят, пока мы в силе, — она шумно вздохнула, довольно неестественно изобразив невнятную печаль. — Брат хотел говорить с тобой. Извини, что мы посягаем на твой покой, но, сам видишь, обстоятельства сильнее любого из нас.
— Как видишь, мы с братом сдержали свое слово, — неторопливо заговорил Константин Лакапин, излишними движениями давая выход переполнявшей его тело энергии, и при том не удосуживаясь снять с лица выражение отвращения, — престол наместника Всевышнего на земле твой. Конечно, ты весьма поверхностно знаком с теми усилиями, которые были положены…
— Да, да!