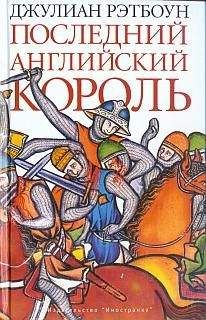Николай Алексеев - Лжецаревич
— Пан! Пей! — поднес он ковш Гоноровому.
Пан Феликс не взял ковша. Он уставился в лицо соседа налитыми кровью горящими глазами, и нечто похожее на рычание зверя вырвалось из его рта.
— Чего ты фыркаешь? Пей с добрыми товарищами! — проговорил Маттиас.
Как будто электрический ток потряс огромное тело Гонорового.
Он выпрямился, вскочил на ноги. Глаза его почти вышли из орбит. Он зарычал и вдруг, как тигр, бросился на Маттиаса и вцепился зубами ему в горло. Пан Маттиас взметнул руками, роняя ковш, и упал навзничь на траву, а пан Феликс насел на него и грыз, грыз его, как грызет волк свою жертву.
— Пан Феликс! Господин! Опомнись! — умоляюще вопил Стефан.
Растерявшиеся было шляхтичи шумно вскочили.
— Чудовище! Людоед! — кричали они, спеша обнажить сабли.
Гоноровый оставил Маттиаса, выхватил саблю.
— Крови! Крови! — неистово закричал он и, размахивая саблей, рубя всех, кто попадался навстречу ему, кинулся бежать.
Стефан и шляхтичи пустились следом за ним.
Его пытались задержать, в него стреляли, но все было напрасно; его сабля рассекала головы, как кочны капусты, и он все мчался вперед по стану, дико хохоча, выкрикивая:
— Крови! Крови!
XXIV
ПРЕРВАННАЯ БЕСЕДА
— Ах, голубчик! Да и рад же я, что с тобой повстречался! Ведь мы тебя покойником считали, — говорил князь Щербинин Павлу Степановичу, присев с ним у костра.
— Ну! — удивился тот.
— Честное слово! Поминанье о тебе подавали. А ты, Бога благодаря, жив-живехонек!
— Да откуда слух такой пошел?
— Из Москвы-реки в ту весну вытащили потопленника — ну, ни дать ни взять, ты. И одежда, и рост… Лика, точно, разобрать нельзя было… Ну рассказывай, как живешь-поживаешь?
— Что моя жизнь? Скорбь да грех только. Ты счастлив ли с женой молодой?
— Счастлив, Бога благодаря, лучшего мне и просить нечего.
— Ты что же, с рас… с царем сюда пришел?
Белый-Туренин слегка улыбнулся его обмолвке.
— Да, с ним, — коротко ответил он.
— Незадолго до того, как мне в поход уезжать, жена твоя весточку прислала.
— Разве она не в Москве?
— Ах, да! Ведь ты не знаешь! Инокиня она. Монастырь маленький, тихий, бедный есть в лесах, верст триста, а то и поболе от Москвы, так вот в нем она постриглась. Святую жизнь, говорят, ведет.
— Вот как! — промолвил Павел Степанович и задумался. — Она счастливее меня — грех один совершила тяжкий и тот отмаливает, и успокоенье ей, верно, Бог послал, а я вот все себе покоя найти не могу, — продолжал он потом.
Алексей Фомич участливо взглянул на приятеля.
— Ну, полно! Неужели у тебя такие грехи, что Господь их не простит?
— Ах, весь я во грехах, кругом! И не хочу, да грешу. И нет часа мне спокойного — мучусь я, терзаюсь! — говорил в волнении Белый-Туренин.
Ни он, ни Щербинин не замечали, что сидевший напротив них маленький худощавый старик внимательно вслушивается в их разговор.
— Бедный ты, — промолвил Алексей Фомич.
— Не бедный, а богатый милостями Божьими! — прозвучал старческий голос, и старичок подошел к Белому-Туренину. — Не бедный, а богатый милостями Божьими! И грехи твои приведут тебя ко спасению. Если ты чувствуешь тяготу их — значит, сердце твое все же чисто, помыслы твои все же светлы. Чистое сердце, светлые помыслы — это ли не Божий милости? И обретешь ты счастье… Мир ти, чадо!
И старик отошел от Павла Степановича и вернулся на прежнее место.
— Кто это? — тихо спросил Щербинин.
— Это?.. Я встречал его на поле после битв. Праведник… Ходит, помощь раненым подает всем, ляхам, русским… С ним девица хаживает… Чудная такая. Волосы всегда распущены, и на голове венок. Сама ликом — что ангел. Слыхал я, звать его Варлаамом.
— Вот кто! Юродивый?
— Нет. Просто муж святой жизни. Что это? Слышишь? — добавил Павел Степанович, прислушиваясь.
— Да, да. Крики, шум… Слышь, стреляют…
— Крови! Крови! — кричал чей-то неистовый голос все ближе, ближе к ним.
Вскоре они увидели освещенную пламенем костров бегущую толпу людей и мчавшегося впереди всех огромного размахивающего саблей человека, вопившего: «Крови! Крови!»
Казалось, он бежал прямо к тому костру, где сидели Алексей Фомич и Белый-Туренин. Они с изумлением смотрели на бегущих.
— Крови! Крови! — прозвучало перед ними, и сабля бешеного занеслась над головою князя Щербинина.
Какой-то человек, уже давно сидевший неподалеку от бояр и украдкой посматривавший на Алексея Фомича, вскочил и во мгновение ока очутился перед безумцем. Он поймал руку Гонорового, вырвал и далеко отбросил его саблю.
Пан Феликс заревел от ярости и охватил заступника своими руками, ломавшими подковы, как черствые калачи. Противник встретил его грудью.
— Батюшки! Да ведь это — Никита кабальный! — вскричал князь Щербинин, узнавая в своем неожиданном заступнике бывшего отцовского холопа Никиту-Медведя.
Между тем, поединок на жизнь и смерть начался.
XXV
СМЕРТЕЛЬНЫЙ БОЙ И ПОСЛЕ БОЯ
Почувствовав себя в объятиях «бешеного» словно в тисках, Никита-Медведь, в свою очередь, охватил его руками. Два тела сплелися и замерли. Казалось, это была высеченная из камня группа борцов-атлетов, так неподвижны были они. Но в этой неподвижности чувствовалась сила, дошедшая до высшей степени напряжения.
Кто победит? — Этот вопрос задавал себе столпившийся люд.
На него трудно было ответить. Колосс Гоноровый выглядел Голиафом, но малорослый в сравнении с ним Никита не уступал ему в ширине плеч, и даже надетая на нем рубаха не мешала разглядеть узлы мускулов.
Бледное лицо пана Феликса стало багровым, бычья шея покраснела и вздулась, пальцы огромных ладоней, казалось, впились в тело противника. Руки Никиты, как две змеи, оплелись вокруг стана «бешеного» и гнули пану спину. Скуластое простоватое лицо Медведя покраснело, и на висках вздулись и бились синеватые жилки.
Вдруг неподвижная группа борцов точно дрогнула.
Вместе с нею дрогнули и зрители, у которых от напряженного внимания холодный пот покрыл лоб.
Но нет, борцы снова неподвижны, только спина Гонорового едва заметно вогнулась.
Зрители притаили дыхание. Костры потрескивали, и трепетное пламя их ярко освещало бледные лица смотревших на борьбу и фигуры борцов.
Новая и новая дрожь…
Группа колеблется, подается. Теперь она уже не неподвижна. Подбородок пана Феликса глубже врезается в плечо Никиты, руки, кажется, скоро вырвут ребра вместе с мясом. Лицо его еще более багровеет; видно, что он хочет сбросить со своей спины кольцо рук Медведя. А Никита по-прежнему неподвижен, только жилы на висках вздулись веревками.
Гоноровый хочет подмять противника под себя, он весь в движении. Никита не шелохнется, и руки его все по-прежнему соединены на пояснице пана Феликса, и с каждой попыткой Гонорового сбросить их они сжимаются крепче, а спина пана все больше сгибается.
Крик дикого зверя пронесся и потряс толпу, и Феликс в бессильной ярости впивается зубами в плечо противника, а руки, как два молота, колотят бока Никиты.
Тут произошло что-то необычайное. Руки Медведя шевельнулись, и спина Гонорового моментально вогнулась. Послышался звук ломаемой кости, и «бешеный» пластом протянулся на земле.
— Пане! Пане! Добрый пане! — с горестным воплем кинулся Стефан к своему господину.
Но тот его вряд ли слышал. Он силился приподняться. Руки действовали, но ноги бессильно протягивались по земле. «Вампир» с невероятными усилиями полз к Никите. Он сыпал проклятия, богохульствовал, скрежетал зубами от боли и ярости. Он прополз немного и упал обессиленный, умирающий. Он царапал, грыз землю… Потом великан вдруг вытянулся всем телом.
— Помер! Что за страшная смерть! — говорили в ужасе в толпе. — Смотрите, он так и умер, закусив землю.
— Жаль, что не мне его пришлось убить! — промолвил, выходя из толпы и обращаясь к Никите, какой-то человек.
— Побойся Бога! Что ты говоришь? Жалеешь, что не убил человека! — укоризненно, покачав головой, сказал старик Варлаам.
— Максим?!
— Павел!
Такими восклицаниями обменялись вышедший из толпы человек и боярин Белый-Туренин.
— Голубчик! А ведь говорили, что ты погиб в пожарище. Как это мы до сих пор не встретились? Обнимемся, — говорил Павел Степанович, подходя к Златоярову.
Лицо того вдруг омрачилось. Протянутые было для объятия руки опустились.
Белый-Туренин заметил это и побледнел.
— Ты все еще не можешь простить мне «того»? Да, я виновен… Ты прав… Но знал бы ты, сколько страдал я за то! — с тоскою промолвил боярин.
Златояров-Гноровский посмотрел на измученное лицо своего бывшего друга, на его рано поседевшую бороду, подошел и обнял его.