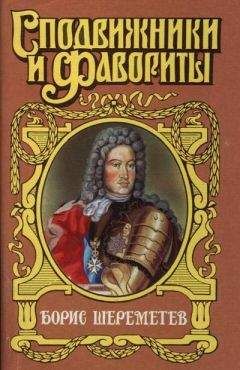Станислав Десятсков - Генерал-фельдмаршал Голицын
— Выходит, Нарва не смутила турок, что ж, и тридцать лет мира с османами — добрый знак! — весело сказал Петр Голицыну, принимая посла в своем домике в Преображенском. — Думаю, за тридцать лет-то мы, конечно, управимся со шведом на севере и развяжем себе руки на юге.
Царь внимательно послушал рассказ князя Дмитрия о всех переменах при султанском дворе, о ненависти к турецким поработителям у христианских народов, об огромном значении Православной Церкви на Балканах.
— Похоже, княже, ты неплохо разобрался в балканском хороводе. Потому назначаю тебя тайным советником и даю тебе новую должность: станешь губернатором в Киеве. Оттуда легко следить и за Балканами, и за крымским ханом, и за большими польскими панами на Правобережной Украине, да и за всеми переменами на гетманщине. Киев — место всему этому удобное, но тревожное: то татарский набег на Украину, то смута в Сечи, то измена панов моему союзнику Августу. — При упоминании союзника Петр хмыкал. Продолжил сурово: — Да и за гетманской старшиной потребно зоркое око. И, конечно, тебе в Киеве заниматься делами не токмо гражданскими, но и военными, быть тебе не просто губернатором, а генерал-губернатором. Придется войска водить, и киевскую фортецию оборонять. Верю — справишься! Помню тебя еще по Азовским походам! Голицын понял — вера Петра, что гвардеец все может, распространяется и на него и оттого поддержка и доверие царя ему обеспечены надолго. И не ошибся: почти всю Северную войну Петр держал Дмитрия Голицына в Киеве как свое недреманное око.
Вскоре после назначения генерал-губернатором Голицыну пришлось уже в 1704 году вести двадцатитысячный Прусский вспомогательный корпус на соединение с королем Августом в Галицию, а после ретирады русской армии из Гродно в Киев сооружать новую Киево-Печерскую фортецию и наблюдать за всеми оборотами дел и в крымской Столице Бахчисарае, и в Молдавии и Валахии.
Но боле всего беспокойства в тревожный 1708 год доставляло киевскому генерал-губернатору поведение пана гетмана Мазепы. И на гетманщине, и в Запорожской Сечи все ведали, что единственный, кому можно было пожаловаться на пана гетмана на Украине, был киевский генерал-губернатор, и потому к князю Дмитрию стекались все доносы на Мазепу.
Но ежели раньше шли только подметные письма или наветы ничтожных людишек, вроде Гультяя Гриця, то теперь на гетмана жаловались уже такие высокородные люди, как полковник Искра и Кочубей. И ежели Кочубей был зол на старого гетмана за то, что тот склонил к блуду его младшую дочку Матрену, то такой заслуженный полковник, как Искра, не имел против Мазепы ничего личного, а токмо подозревал Гетмана в измене. И оба они, и Искра и Кочубей, были едины в одном: Мазепа давно уже ведет переписку с королем Станиславом, зазывает его и шведов на Украину, готовит великую измену царскому величеству.
Последнее письмо по этому делу князь Дмитрий получил от полковника слободского Ахтырского полка Федора Осипова (полки слободской Украины гетману не подчинялись), который сообщал, что в феврале явился к нему из Полтавы поп Иван Святайло от полковника Искры, и через того священника Искра просил Осипова встретиться с ним для государева дела.
Когда Осипов съехался с Искрою на своей пасеке, тот сообщил тайну, что гетман Иван Мазепа, согласившись с королем Лещинским, умышляет на здравие великого государя, как бы его в свои руки захватить и смерти предать! Хотел гетман сие сделать во время приезда в Батурин Александра Кикина: Мазепа думал, что под именем Кикина приедет сам государь, и велел, как будто для встречи, поставить в караул своих верных сердюков, навербованных из войска короля Станислава. Все сердюки стояли с заряженными ружьями, гетман приказал им, как государь войдет во двор, выстрелить в негр. И только когда Мазепа узнал, что царского величества нет, а едет один Кикин, то велел сердюкам тотчас разойтись.
А сейчас гетман умышляет, как бы ему через Днепр со своими полками перейти и в Белую Церковь убраться, где и соединиться с королем Лещинским!
Самые горячие строчки из этого письма (которое Голицын сразу же переслал канцлеру Головкину) долго еще вертелись в голове князя Дмитрия и не давали спокойно спать.
С одной стороны, сколько уже было посыльных к Мазепе от поляков: и от покойного ныне короля Яна Собесского, и нынешнего короля Станислава Лещинского, и всех их Мазепа сам выдал царю на расправу. За то и обретался у государя в великом доверии и почете. И разве не Мазепу Петр I вторым, после канцлера Головкина, наградил высшим российским орденом Святого Апостола Андрея Первозванного?
А с другой стороны, Кикин и впрямь заезжал недавно в Батурин, и многим было ведомо, что царь часто ездит под именем этого адмиралтейца, благо едины ростом и статью. И полковник Анненков, постоянно пребывающий при гетмане, недавно доносил Голицыну, что гетман и впрямь половину своего скарба недавно перевез из Батурина в Белую Церковь, а теперь и сам на правобережье перебрался. И как знать, не собирается ли он встречать в Белой Церкви Лещинского, который, по слухам, собирается идти в Галицию, а оттуда на Днепр?
Словом, было отчего тревожиться князю Дмитрию в эти мглистые мартовские дни. Одно было хорошо. Как сообщил Осипов, доносчики Кочубей и Искра не бежали в Крым, а добровольно явились в Ахтырку, полагаясь на царскую протекцию, и отправлены сейчас в Смоленск для допроса.
А вечор пришла еще одна отрадная весть: гетман из Белой Церкви поспешает сейчас в Киев и будет с визитом у генерал-губернатора.
И точно, в тот мартовский день 1708 года к князю Дмитрию пожаловали гости. За окном уже брезжили пепельные влажные сумерки, густой туман от таявшего снега поднимался до черных верхушек оголенных деревьев. Но в обитой дубом гостиной было покойно, дышала жаром большая изразцовая голландская печка, в сумеречном обманчивом свете весело поблескивали горки серебряной посуды за стеклом богатого буфета.
Гости сидели вокруг маленького наборного столика, уставленного десертом: яблоками, грушами и виноградом из теплиц собственного княжеского сада и диковинными плодами — лимонами и апельсинами — подарком воложского господаря. Пили черный яванский кофе и ароматный французский коньяк, презент князю Дмитрию от его ближайшего друга Андрея Артамоновича Матвеева, русского посланника в Голландских Штатах и Англии.
Разговор шел неторопливый, по-старинному учтивый и осторожный о самой высокой политике. Самый старший среди гостей — старик с красными глазами и надменной складкой сухих губ — пересыпал свою речь латинскими изречениями, нарочито щеголяя той старинной образованностью, которой славилась вельможная шляхта в ушедшем семнадцатом столетии.
— Mea roto, на мой взгляд, князь, не выскочка Пуфендорф[30], а славный мыслитель Макиавелли[31] приближается к истине, когда утверждает: «Государю важнее, чтобы его более боялись, нежели любили!» — Старец с нескрываемым презрением оглядел собеседников, ведь гетман Мазепа единственный мог почитать себя за этим столом если и не монархом, то полумонархом.
— Но, коли позволит пан гетман, — вмешался в беседу тучный иеромонах с черной как смоль бородой, — Макиавелли писал и иное: «Лучшая крепость для государя — расположение к нему подданных!»
— В моем случае Макиавелли говорит: «Sub specie aeternitatis (с точки зрения вечности)», в вашем же случае, отец Феофан, Макиавелли ведет речь a contratio (от противного), — с поучением ответил пан.
Князь Дмитрий, дабы разрешить спор Мазепы и Прокоповича, негромко хлопнул в ладоши и приказал выросшему на пороге секретарю принести из своей библиотеки книгу известного сочинителя Пуфендорфа «О законах естества и народов».
Бесшумно скользящие по паркету лакеи в цветных ливреях зажгли восковые свечи в бронзовых канделябрах, и, погруженная дотоле в полумрак, гостиная предстала перед гостями во всем своем полуевропейском, полуазиатском великолепии. Зеркала из белого английского стекла, установленные во весь рост, отражали противоположную стену, укрытую дорогими персидскими коврами, увешанную ятаганами дамасской чеканки и кривыми черкесскими саблями в золоте и серебре. Над дверью, ведущей в гостиную, сочными красками поблескивала венецианская картина, изображающая золотоволосую красавицу с обнаженной белоснежной грудью, из другого же угла печально и строго взирала Богоматерь Одигитрия с иконы рублевского письма.
— Секретарь, молодой человек в кафтане, украшенном княжеским вензелем, выскользнул из потайной дверцы и почтительно протянул князю книгу с золотым обрезом, после чего исчез так незаметно, словно его и не было.
По всему было видно, что князь Дмитрий неоднократно читал книгу Пуфендорфа. Он легко нашел отмеченное на полях место и прочел с неким тайным волнением: