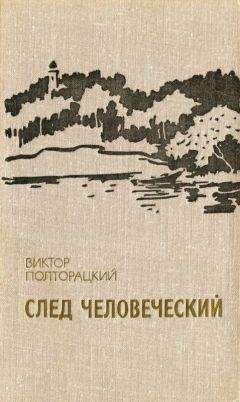Иво Андрич - Мост на Дрине
Оставалось выяснить только, на сколько выпил или переколотил посуды выставленный гость; полученную сумму Лотика спишет, когда далеко за полночь будет за своей красной ширмой подсчитывать дневную выручку.
XV
Существовало несколько способов, с помощью которых буйствующий и столь ловко выставленный из гостиницы гость, если только прямо от дверей его не забирали в каталажку, мог опомниться и отойти после приключившейся с ним неприятности. Он мог добрести до ворот и здесь освежиться прохладой, веющей с гор и с реки. Или же податься в трактир к Зарии, тут же поблизости на площади, и здесь открыто и свободно предаться зубовному скрежету, угрозам и проклятиям по адресу незримой руки, безнаказанно и подло выдворившей его из гостиницы.
В трактире у Зарии, не бывает и не может быть никаких скандалов, ибо после того, как с первым сумраком, приняв свою дневную «порцию» и перекинувшись словцом с такой же, как они, солидной публикой, расходились по домам степенные хозяева и трудовые люди, все прочие пили, сколько принимала душа и позволял карман, и говорили и делали что кому заблагорассудится. Здесь никого не принуждали тратиться и напиваться, сохраняя при этом трезвый вид. А если уж кто-нибудь терял всякую меру, немногословный грузный Зария одним своим видом угрюмой озлобленности обескураживал и отрезвлял самых отъявленных пропойц и скандалистов.
– Давай кончай! Хватит безобразничать! – осаживал он их жестом тяжелой руки и низким хриплым голосом.
Но и в этом допотопном трактире, где не было ни отдельных кабинетов, ни кельнеров и где обходились услугами какой-нибудь деревенщины из Санджака в крестьянском облачении, старые обычаи причудливо переплетались с новыми.
Молча сидели, забившись в дальние углы, здешние завсегдатаи, отпетые пьяницы. Любители уединения и полумрака, бегущие от шумной суеты, часами просиживали они, склонившись, как над святыней, над чарками. С обожженным желудком, воспаленной печенью, расстроенными нервами – небритые, опустившиеся, равнодушные ко всему на свете и опостылевшие самим себе, они упорно пили в мрачной решимости еще раз дождаться волшебного озарения, сладостно выстраданного закоренелыми пропойцами, но быстро затухающего и гаснущего, а с годами все реже являющегося им тусклыми отблесками былого сияния.
Не в пример говорливей и шумнее новички, по большей части господские сыночки, юнцы в опасном возрасте, делающие первые шаги на пути беспутства и безделья – пороков, которым все они в течение более или менее длительного времени будут платить неизбежную дань. Вскорости, порвав с грехами юности, большинство оставит этот путь и, обзаведясь семьей, отдастся накопительству и тяготам труда, обывательской повседневности с ее подавленными пороками и умеренными страстями, И только незначительное меньшинство отмеченных проклятьем пойдет и дальше предопределенной им стезей, истинную жизнь заменив алкоголем – самой обманчивой и скоропреходящей иллюзией в этой обманчивой и скоропреходящей жизни, и станет жить ради него, сгорая и постепенно превращаясь в таких же мрачных, тупых И опухших пьяниц, что сидят сейчас здесь, забившись по темным углам.
С наступлением новых времен с их свободой и вольностями, оживлением торговли и лучшими заработками в трактир, помимо цыгана Сумбо, вот уже три десятка лет игравшего на своей зурне на всех местных пирушках, стал частенько наведываться и Франц Фурлан со своей гармоникой. Тощий и рыжий, с золотой серьгой в правом ухе, он занимался плотническим делом, но был сверх меры предан музыке и вину. Солдаты и иноземные рабочие особенно любили его слушать.
Случалось, и гусляр какой-нибудь заглядывал в трактир – обычно черногорец, схимнически изможденный, в отрепьях, но полный достоинства, с открытым взглядом: изголодавшийся, но щепетильный; гордый, но вынужденный побираться. Какое-то время он сидел в укромном углу, явно подавленный, вперив взор в невидимую точку перед собой и ничего не заказывая, с выражением самоуглубленной отрешенности, выдававшей, однако же, какие-то подспудные мысли и намерения, кроющиеся за внешним безразличием. Множество противоречивых и непримиримых чувств раздирало душу гусляра, возвышенный настрой которой находился в разительном несоответствии с немощью и прискорбной ограниченностью средств для ее выражения. Отсюда его робость и неуверенность. Терпеливо и гордо ждал он, когда его попросят спеть, но и тогда как бы с сомнением извлекал из сумы своей гусли, дул на них, проверял, не отсырел ли смычок, подтягивал струну, стараясь при этом привлекать как можно меньше внимания к своим приготовлениям. Вот он проводит по струне смычком и извлекает первый дрожащий и неровный звук, подобный ухабистой дороге. И тут же начинает сам без слов подпевать гуслям, поддерживая и выравнивая их своим голосом. Когда же оба голоса сливались воедино в однообразно-заунывную мелодию, составляющую приглушенный фон песни, недавний нищий преображается как по волшебству: отброшена мучительная робость, исчезли внутренние противоречия, позабылись все невзгоды. Решительно вскинув голову и отбросив маску скромности, ибо теперь уже нечего было таиться, гусляр неожиданно сильным и высоким голосом выкликивал строки вступительных стихов:
И промолвил базилик убогий:
«Что ж ты про меня, роса, забыла?»
И гости, до сих пор вроде бы и не обращавшие никакого внимания на гусляра, обрывали разговоры на полуслове и умолкали. Трепет жгучей и смутной жажды той самой росы, что живет в песне и у них в крови, при звуках этих первых слов пронизывал каждого здесь находившегося независимо от того, турок он или серб. Но когда певец, тут же понизив голос, продолжал:
Молвил то не базилик убогий… —
обнажая смысл завуалированного сравнения, и начинал перечислять истинные чаяния и нужды турок или сербов, скрывающиеся за метафорической фигурой росы и базилика, чувства слушателей резко разделялись и растекались в противоположные стороны, согласно их сокровенным желаниям и воззрениям. Подчиняясь, однако, неписаному правилу, гости невозмутимо слушали песню до конца, ничем не выдавая внутреннего своего состояния. И только на зеркальной поверхности ракии в стоящей перед ними чарке их неподвижным взорам являлись блистательные победы, сражения, героизм и слава, до сей поры не виданные миром.
Особенно буйное веселье воцарялось в трактире, когда случалось загулять молодым купчикам и купецким сынкам. Тогда всем – и Сумбо, и Францу Фурлану, и Кривому, и цыганке Шахе – находилась работа.
Косоглазая Шаха, дерзкая на язык мужеподобная цыганка, пила со всеми, кто платил, но никогда не пьянела. Без Шахи и ее рискованных шуток невозможно было представить себе ни одной попойки.
Сменялись люди, веселившиеся с ними, но Шаха, Кривой и Сумбо оставались все теми же. Они жили музыкой, шутовством и вином. Их труд – в безделье других, их заработки – в чужом мотовстве, их настоящая жизнь начинается ночью в те неурочные часы, когда здоровые и счастливые люди давно уже спят. Именно тогда под действием спиртного подавленные душевные движения пробуждаются у гуляк взлетами искрометного веселья и бурных порывов, при всем однообразии обольщающими своей новизной и непревзойденностью. Шаха, Кривой и Сумбо являются платными и бессловесными статистами, перед которыми не стыдно обнаружить свою подлинную суть из «плоти и крови», не испытывая потом ни сожаления, ни раскаяния; при них и с ними позволительно то, что невозможно на людях и уж совсем недопустимо и безнравственно в родном гнезде. Прячась за них, как за ширму, и списывая на них все грехи, почтенные и состоятельные отцы и сыновья из добропорядочных семейств могли, отрешившись на миг от условностей, побыть самими собой, хотя бы временно и какой-то частью своего существа. Натуры грубые, рассвирепев, подвергали их издевательствам или побоям, трусливые – осыпали бранью, щедрые – одаривали, тщеславные покупали их лесть, хмурые причудники – выходки и зубоскальство, развратники – вольности или услуги. Они отвечали необходимой, но непризнаваемой потребности провинциального мирка с его убогой и искаженной духовной жизнью; своего рода актеры в среде, не знающей подлинного искусства. В городе не переводились певцы, потешники, шуты и балагуры обоих полов. Отжив свой век и сойдя в могилу, они уступают место своим преемникам, в безвестности возросшим в их тени для того, чтобы после них увеселять и скрашивать часы досуга новым поколениям. Но много еще времени пройдет, пока появится второй такой потешник, как Салко Кривой.
Когда после установления австрийской оккупации в город приехал первый цирк, Кривой пленился канатной танцовщицей и натворил из-за нее столько глупостей, что был посажен в каталажку и бит палками, а на господ, бессовестно подстрекавших и распалявших его неистовство, наложили большой штраф.