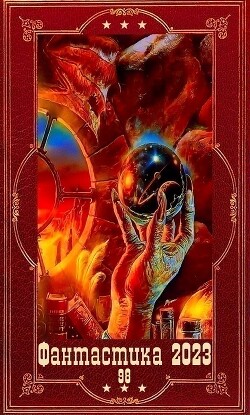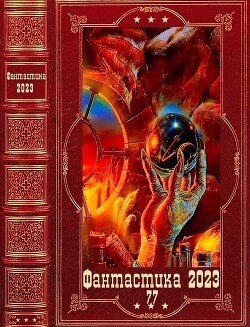Прорыв под Сталинградом - Герлах Генрих
“На южном участке Сталинградского котла, подконтрольном одной из дивизий, 22 декабря были замечены два русских перебежчика. Они заявили, что им известно, что немцы находятся в окружении, однако снабжение и отношение к людям на советской стороне настолько отвратительны, а шансы на победу в войне настолько ничтожны, что они предпочли перейти на сторону Германии”.
– Видите? А я вам что твержу! – воскликнул Фрёлих.
Раздался гогот. Зондерфюрер обиженно замолчал и надулся.
– А вот еще… Тоже недурно! – продолжал начальник штаба разведки.
“Фельдфебель и ефрейтор мотострелковой дивизии, более недели пребывавшие в тылу врага незамеченными, возвратились с ценными разведданными. Среди прочего они доложили, что силы советских войск, сосредоточенные вокруг котла, невелики. Особенно ощутима нехватка танков и тяжелого вооружения. Настрой русских солдат снижен. Часто звучат жалобы на усталость и недостаточное снабжение. За свою смелость военнослужащие были отмечены лично командующим корпусом”.
Ну, что вы на это скажете?
– Хотел бы я знать, господин обер-лейтенант, как это они общались с русскими солдатами, чтобы такое выведать, – подал голос унтер-офицер Херберт.
– В частях об этом ни слова, Херберт! – осадил его Бройер. – По мне, можете порезать эту дребедень на туалетную бумагу. Но не смейте судачить о ней за дверью блиндажа – вы всё поняли, Лакош?
Так в блиндаже вновь наступили серые будни.
Глава 4
В тумане проступили очертания
Вьюжные, ненастные дни начали постепенно сменяться звенящими морозами, характерными для середины зимы. Нигде, кроме как в далекой России, так не играл красками холодный рассвет. Затянутое тучами небо на востоке окрашивалось в густо-лиловый; над ним, извиваясь, тянулась узкая полоса ясного небосвода нежного оттенка морской волны, отражаясь в поднимающемся над блиндажами плотном белом дыме и заставляя бесчисленные кристаллы, образующие тонкие узоры на снежном покрывале, сверкать и искриться, точно бриллианты. В конце концов пурпурный семафор бросал последние лучи на бескрайнюю пелену, на поверхности которой, казалось, застыла легкая рябь глубоких и спокойных вод. С молчаливым изумлением окруженные солдаты следили за этой прекраснейшей фата-морганой, словно в насмешку разыгрывавшейся над беспощадной ледяной пустыней, за этим хладным великолепием, за которым крылась смерть, смерть и еще тысячу раз смерть. Создавалось впечатление, будто жестокие игры природы подталкивают к самообману, к той самой мистической вере в чудеса, которая тем беспрепятственней завладевала ими, чем отчаянней и безвыходней становилось их положение. Командование, покорно демонстрируя требуемый в верхах оптимизм, вопреки здравому смыслу подпитывало ее, пока само не оказалось во власти иллюзий. Никто более не желал знать правды – и они закрывали на нее глаза. Как сумеречное сознание замерзающего, прекрасно понимая, что уже пребывает в студеных объятьях смерти, следует за притупляющими образами выдуманного счастья, так и триста тысяч человек, истощенных, изъеденных холодом, преданных и брошенных на произвол судьбы, были опьянены измышленной переоценкой собственных сил и возможностей, замерли в ожидании знака свыше, чуда, которое свершит удивительный волшебник из Берхтесгадена [43]. Ужас, царивший в Сталинграде, постепенно окутывала призрачная дымка лучистых надежд, желаний и мечтаний, вызывавших паралич всякой воли к свершениям.
В числе тех, над кем они были не властны, был ефрейтор Лакош. События последних недель градом обрушились на него и в щепки разнесли ту цитадель, что воздвигли в душе его воспитание и пропаганда. Но под обломками ее теплились давно забытые чувства, побуждавшие к действию.
Вскоре после Рождества оборвалась последняя нить. Его любимый маленький “фольксваген”, верный спутник на протяжении долгих, исполненных невзгод лет, приказал долго жить. По приказанию каптенармуса шофер отогнал его в ремонтную роту. Через три недели его обещали вернуть на полном ходу. Лакош прекрасно понимал, чего следует ждать от подобных обещаний. Три недели… За это время могло случиться все что угодно. Он распрощался с машиной навсегда и грустно побрел назад через овраг. Снег хрустел и скрипел у него под ногами, позади постепенно стихал треск сварки, стук и лязг разных инструментов. Тусклый свет струился с безоблачного неба на искрящийся снег; отвесные выступы отбрасывали синие тени. Над черными печными трубами у входов в блиндажи вились тонкие струйки дыма. Голодранцы-румыны засыпали красно-коричневые воронки от бомб, разорвавших колею. Закутанные пехотинцы топтались в грязно-серой луже вокруг полевой кухни. Перед завешанным мешками входом в одно из убежищ какой-то солдат наскоро заталкивал в кастрюли снег. Заметив проходящего мимо Лакоша, он поднял голову.
– Эй, Карл, старина! Ты здесь откуда?
Ефрейтор замер. Голос был ему знаком. Он бросил взгляд на окликнувшего его – и действительно, это был Зелигер, когда-то служивший у них на кухне.
– С ума сойти, – сухо заметил Лакош. – Я думал, ты помер.
Бренча кастрюлей, Зелигер подошел поближе и расхохотался.
– Думал он! Нет, дружочек, дерьмо не тонет! Но ты задержись на минутку. В такую погоду слюна во рту стынет…
Он взял сомневающегося шофера под локоть.
– Разопьем бутылочку! Старик уехал и раньше чем через два часа не вернется. Я теперь у капитана Корна денщиком: не бей лежачего.
Воздух в низеньком блиндаже был спертый. Зелигер извлек из-под нар бутылку водки и поставил на стол два стакана. Взгляд Лакоша скользнул по новехонькой ленте Железного креста, украшавшей его замызганную гимнастерку. Мыслями он все еще был в автомастерской.
– Как дела у тебя? – равнодушно спросил он. – У нас говорили, ты коньки отбросил.
Товарищ посмотрел на него с удивлением. Эти слова его явно задели.
– Да ты что, не слыхал? Это ж мы с Харрасом тот финт в тылу провернули!.. Сообщений, что ль, не читаете?
– Что?! Так это вы? – внезапно очнувшись, вскричал Лакош. – Вы пробрались в тыл к русским?.. А ну выкладывай скорей!
Зелигер перестал дуться и не заставил себя упрашивать. Чокнувшись и опрокинув стакан, он принялся рассказывать… Мама дорогая, чего только не выпало на их долю! Русские разведчики отрезали их от своих, и, молниеносно приняв решение, они пересекли вражеские рубежи, двое суток прятались в заброшенном блиндаже, по ночам таскали с полевой кухни консервы и хлеб, уложили двух одиноких часовых, забрали ружья и шинели и в них еще несколько дней по деревням и военным лагерям… Поначалу Лакош еще пытался переспрашивать, но затем умолк. Он ведь неплохо знал Зелигера: единственное, что в этом увальне было и в самом деле выдающимся, так это способность врать. И он пытался убедить его, что…
– Я тебе вот что скажу, – прервал Лакош уже поднабравшегося ефрейтора. – Это ты бабушке своей зубы заговаривай! Думаешь, плеснул чуток – и можешь меня на дурачка развести? Я еще понимаю, Хехё отличился – но ты? Громыхнет где – ты уж и в штаны наложил!
Зелигер сглотнул, потом еще сглотнул. Треп и бахвальство в мгновение ока сменились злобой. К воздействию алкоголя он явно был неустойчив – взгляд у него был стеклянный.
– Ты погляди! – взвился он. – Мне он, значит, не верит… А господину фельдфебелю поверит? К-конечно, кто станет с-слушать какого-то с-солдата… А Хехё может нести что хочет… С-скотина надутая!.. Пока мы там торчали, он мне жопу лизал: Зелигер то, Зелигер се, Зелигер, дорогой мой товарищ! А сегодня даже в мою сторону не смотрит, свинья!
Он громко рыгнул.
– Но я тебе вот что скажу… Стоит мне только рот раскрыть – и ему крышка! Крышка, помяни мое слово!..
Лакош навострил уши. Тут что-то было нечисто.
– Ну-ну, – осторожно ответил он. – Что это ты против него попер? Мне казалось, со времен вашего геройского похода вы не разлей вода? И ты теперь большой человек!