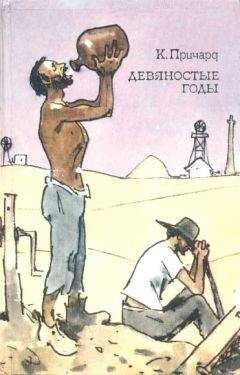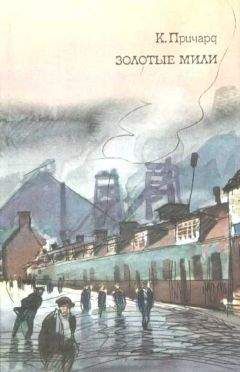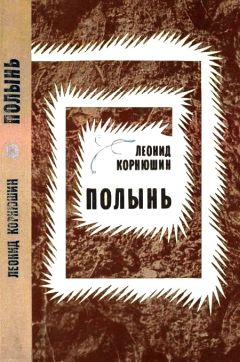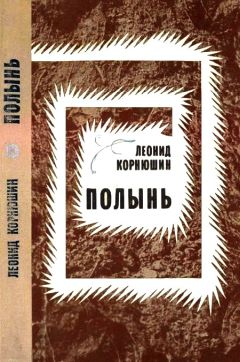Леонид Корнюшин - На распутье
— Что не весел, владыко? — спросил «государь», напустив на себя миролюбивый вид.
— Откуда веселье? Один разврат да попойка! Отселева и ползет зараза, тут одно сатанинство!
— А нешто от меня?
— Я тебе не помощник!
Приручить Филарета не удалось. Лев Плещеев, Захарий Ляпунов и Федька Хрипунов хотя и лезли из кожи вон, но глядели на самозванца криво.
Один только и был надежный и преданный слуга — шут Кошелев. Тот шептал, что покуда государь сидит в лагере Рожинского, то ждать ему нечего, может случиться еще худшее…
— Я уж и сани сготовил. Соломы подстелем, авось улизнем — останемся живы.
— Ладно. Запрягай. Кликни царицу.
Марина как на иголках сидела в своей светелке — не то государыня, не то пленница… Видя жалкую роль Димитрия, она, однако, не думала складывать рук. Марина писала королю: «Все отняла у меня судьба: остались только справедливость и право на престол московский, обеспеченное коронациею, утвержденное признанием меня истинною и законною царицею и укрепленное двойною присягою всех сословий и привинций Московского государства». Царица… Была безвестная панночка — мало ли таких дур поусохло по фамильным замкам! — а стала государыня царств Московского, Новгородского, Псковского, и Белыя, и Малыя… Одно угнетало: тушинский царишка не походил на Димитрия, тот сладкие и милые речи говорил, внимал любой ее прихоти. Так пускай же знает, что не нуждается она в нем, ибо сама коронованная — с такой мыслью она и вошла этой ночью к самозванцу.
— Я покидаю Тушино, а ты, дура, молчи! — Самозванец стоял в казацком кебеняке, был злобен и не глядел на нее.
— Куда же ты бежишь? — Марина, как ни сдерживала себя, всхлипнула от злости.
— Услышишь… чай.
— А что будет со мною? — вырвалось хрипло, со стоном.
— Что хошь! Не лезь. Не до тебя тут…
— Я коронована в Успенском соборе, — напомнила, сжав надменно губы, — а на тебя пока венец не возлагали.
Самозванец усмехнулся ей в лицо:
— Такие речи со мной не калякай. Коронованная! Мне здесь быть нельзя. И тебя они удерживать не посмеют.
Вошел Кошелев:
— Едем, государь. Медлить нельзя, скоро зачнет светать.
Самозванец, ухватив шкатулку с золотом, не оглянувшись на польку, торопливо выскочил на крыльцо — плюхнулся в шибанувшие в нос навозом сани… Слезилось метельное утро. Погони вроде не примечалось, шут озирался по сторонам. Рассвело, и ехать было крайне опасно.
— Тутка есть надежные люди — прикроют. Пересидим здесь.
Въехали в крытый двор. Их встретил хозяин с широкой пегой бородой, в крытом нагольном полушубке.
— Заходьте в горницу — не боитесь. Мавра, пойди покличь Опанаса, — сказал хозяин.
Молодуха молча вышла и скоро воротилась с толстым, стриженным под горшок казаком лет под пятьдесят, сосавшим люльку.
— Опанас, надо вывезть государя…
— Це можна… Теперь али ночью? — спросил казак.
— Ночью стража дотошней. Выедешь под вечер… Наложишь чего-нибудь на воз.
Когда стало смеркаться, к южной заставе, стуча полозьями по обледенелым колеям, подъехала подвода, груженная новенькой пахучей дранкой.
— Куды це везете? — спросил свирепого вида хорунжий, по лицу которого можно было понять, что он не остановится перед тем, чтобы перетряхнуть воз.
Темноусый казак, ничего не говоря, вынул из торбы кухоль[52] горилки, произведший на хорунжего значительное впечатление: намерение ворошить дранку у него пропало.
— По надобности, доброди, хыбарку строим, — пояснил темноусый.
Хорунжий, ухватив кухоль, махнул рукою — проезжай.
Самозванец, лежавший под дранкою, передохнул от страха. К концу другого дня с изволока проглянула Калуга. Шут придержал коня.
— Куды, государь? В город?
— Сворачивай в монастырь.
Обитель была безлюдна, по обледенелым ступеням спустились в келью к отшельникам, — те, увидев не внушавших доверия путников, закрестились. Самозванец, сбросив медвежью доху, подсел к печи. Выл в трубе ветер, качался огонек лампадки. Тщедушного вида монах попытал:
— Кормишься, сынок, Божией милостью?
Шут Кошелев раскрыл пасть, обнажив лошадиные зубы:
— Глазелки повылазили? Пред тобой — государь Димитрий!
…Самозванец принялся за воззвание, где клялся не уступить королю «ни кола ни двора», закончив, велел монахам нести писание в город. К полудню в монастырь повалил народ. Но уже на другой день, когда в Калугу из Царева Займища на поддержку беглеца прибыли казаки Шаховского, заговорили по городу вовсе другое:
— Вор он — морда воровская. Нешто похож на царя?
Князь Димитрий Трубецкой и Засекин, не подчинясь атаману Заруцкому, двинулись из Тушина на помощь самозванцу в Калугу. Рожинский последовал за ними и начал стрелять из пушек. Таким образом, положили тысячи две казацких голов, иные из казаков вернулись обратно в стан, другие успели уйти и пошли к Калуге.
XXVIII
— Этот свинья посмел шарить в моей торбе! — сказал возмущенно ксендз, находившийся при гетмане.
— Тяни его на сук, — сказал гетманов секретарь, лях, напоминавший ржавую тощую селедку с выпученными глазами.
Перед ними стоял в наручах не кто иной, как вынырнувший из пучины смут, знаменитый московский тать Левка Мятый. Он только что попался в доме ксендза.
— Вы, господа паны, можете много плакать, когда узнают в Москве, что вы мене повесили, — огрызнулся Левка. — Я такой человек, что за меня вступится всяк православный.
— Хорош православный, хороша вера, если у них в почете вор! — ядовито усмехнулся ксендз.
Ляхи, задрав от высокомерия головы, засмеялись. Пан Будзило, проходивший мимо только что отстроенного дома ксендза, на двор которого выволокли Мятого и его товарища, подкрутив свои крысиные усики, крикнул:
— Посадить, собаку, на кол!
— Залучше, пан полковник, повесить москаля за ноги, — сказал какой-то летучий гусар, гремя доспехами, которые он не успел снять, воротившись с грабежа; вылазка была прибыльная, гусары набили сумы русскими мехами, и потому этот пан находился в радостном состоянии, назвать же себя вором он, конечно, и в мыслях не допускал.
— Какой добрый пан, — отбрехнулся Левка. — А вот ежели б ты попался мне, то я бы так тебя уделал, что сразу обделался.
Здоровенный лях ухватил Левку за шиворот, но Левка был не из тех, кто слыл трусом.
— Ты, скотина, посмеешь касаться меня, русского князя?
Паны затрясли бритыми подбородками, подняли хохот.
— А что вы таскаете моих славных казаков? — спросил, проходя мимо, атаман Швыдченков: ему почему-то захотелось вызволить из польских лап этих двух отпетых.
— Я, может, ослухался? — зло уставился на него ксендз. — Этот свинья посмел украсть моя торба!
— Казак не ворует: он отымает, у кого грабленое.
— Станем мы, христиане, мараться, — покивал Левка.
— Атаман верно говорит, — заявил случившийся тут Купырь, ринувшийся на выручку старого товарища, невесть как вынырнувшего в тушинском таборе.
— Вы меня, Панове, не злите. — Швыдченков лязгнул саблей, уводя Левку с товарищем.
— Не с того ль света выполз, Лева? — попытал Елизар.
— Бывал, братове, я на волоске.
— Мы много где бывали, — сказал Левкин товарищ с бельмом на глазу.
— Спасибо, господин атаман, выручил, — поблагодарил Левка.
— В другой раз не попадайтесь, — посоветовал, уходя, Швыдченков, — не то окажетесь на кольях.
— Пошли до моих хором. — Елизар кивнул на «царский» дворец.
— Что ж ты, али около него? — попытал Левка, когда вошли в жилье Купыря: в крохотный домишко на задах царского огорода.
— На мне была мыльня, а ныне царишка смылся.
— Куды?
— Бают — в Калугу.
— Теперь ты, стало, без дела?
— Я так кумекаю, Лева, шо нам надо бечь к нему. Тут нас перевешают как собак, — сказал Купырь, ставя закуску.
— Не, Елизарий, мы с товарищем подадимся на Можайскую дорогу, — отказался Мятый, усиленно работая зубами.
— Как хошь, а по мне так — податься в Калугу, а на Можайской можно угодить к ляхам.
— На ляхов у нас дробь да кистеня, ай не знаешь?
— Что ж, вы — на Можайку, а мы, видать, в Калугу. Авось когда встренемся, — сказал, как окончательно решенное, Купырь. — Ну-ка, отпробуем царского аликанту.
Как стемнело, они незаметно выбрались из табора.
XXIX
Тушинский табор походил на муравейник. После бегства «мужа» Марина как помешанная с раннего утра носилась по табору, уговаривая рыцарей и казаков идти в Калугу, на подмогу к «царю». Она не останавливалась ни перед какими средствами, лишь бы расположить к себе сердца. Атаман Иван Заруцкий на ее уговоры заявил прямо: