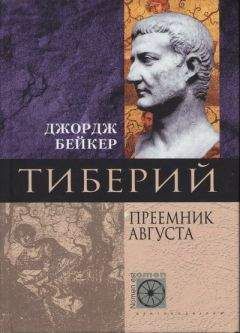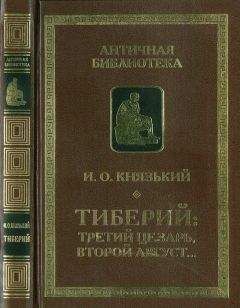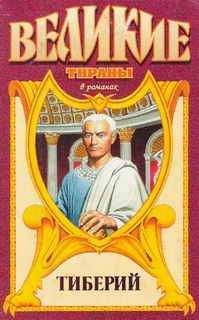Даниил Мордовцев - Царь и гетман
Один Ягужинский стоял молча, и как он в постоянной близости царя ни вымуштровал свое лицо, оно все-таки выдавало его глубокую тревогу.
— Ах, старый, старый! — качал головою Петр, читая показание Кочубея. — Словно паренек молоденький… «Присылаючи, — читал он дальше, — гетман брав сорочку Мотроны з тела з потом килько раз до себе. Брав и намисто з шии килько раз, а для чого, тое его праведная совисть знает…»
— А сам поди и чулочки и подвязочки у своей-то любушки бирывал, — скверно, плотоядно хихикал Головкин, семеня красными икрами, словно гусь, около царя.
— Да, да, — подтверждал царь, — а все я никакой измены тут не нахожу… разве в письмах самого Мазепы к оной девице: да я их чел и ничего не вычел.
И царь снова пододвинул к себе письма Мазепы. Ягужинский лихорадочно следил за ним.
— Вот большое письмо — нет ли тут чего?.. «Моя сердечно коханая, наймильшая, найлюбезнейшая Мотренько! Вперед смерти на себе сподевався, неж такой в сердцу вашем одмены. Спомни только на свои слова, спомни на свою присягу, спомни на свои рученьки, которые мине не поеднокрот давала, же мене, хочь будешь за мною, хочь не будешь, до смерти любити обецала. Спомни на остаток любезную нашу беседу, коли есь бувала у мене в покою. Припомни тилько слова свои, под клятвою мне данные на тот час, коли выходила есь з покою мурованого од мене, коли далем тобе перстень диаментовый, над который найлепшого, найдорогшого у себе не маю, же хочь сяк, хочь так будет, а любовь межи нами не одменится. Нехай Бог неправдивого карает, а я, хочь любишь, хочь не любишь мене, до смерти тебе подлуг слова свого любити и сердечне кохати не перестану на злость моим ворогам. Прошу и вельце, мое серденько, яким кольвек способом обачься зо мною, що маю з вашею милостью далей чинити, бо больш не буду ворогам своим терпети, конечне одомщение учиню, а якое — сама обачишь. Счастлившии мои письма, що в рученьках твоих бывают, нежели мои бедные очи, що тебе не оглядают!»
Царь остановился. Рука его машинально перебирала бумаги, тогда как в голове, видимо, созревала новая мысль, заставляя нервно подергиваться мускулы на его подвижном лице и зажигая новые искры в глазах. И Головкин и Ягужинский, напряженно следя за этой работой мысли, оба ждали чего-то, но только не с одинаковыми чувствами.
— Понеже… — начал было царь, но потом, как бы опомнившись, продолжал, — вот что, Гаврило Иванович, кончай ты с этим розыском скорее — я вижу, что тут измена верного гетмана примазана безлепично… Жаль мне и Кочубея, а наипаче жаль Мазепу… Каково отнять у старика последнюю радость! А ежели она, девка-то, любит его, горемычная? Каково ей?.. А она любит его, сие несумнительно… Так быть по сему: отошли ты Кочубея, Искру и прочих доносителей к Мазепе, на его волю: хочет — казнит, хочет — помилует… А на этой красавице я сам его женю, сам и сватом буду и посаженным отцом. Я хочу, чтобы Россия имела сына от Мазепы: доблестный и верный род Мазепы не должен угаснуть — это моя воля!
Что выражало при этом бледное, без кровинки лицо Ягужинского — трудно передать… Бедный Павлуша…
X
В конце июня 1708 года по Днепру, недалеко от впадения в него Тетерева, плыла небольшая парусная галера, тихо подгоняемая северным ветерком, который едва-едва надувал парус и лениво поскрипывал флюгером, изображавшим стрелу, пробивающую полумесяц. День выдался жаркий, безоблачный, и хотя солнце повернуло уже на запад, но зной все еще не спадал и близость воды не приносила прохлады. Галера была вооружена двумя небольшими чугунными пушками. В передней части ее расположилась группа солдат и стрельцов, из коих одни спали, раскинувшись кто кверху носом, кто книзу, другие играли в какую-то замысловатую игру и то и дело били друг друга по ладоням концом толстой смоленой снасти, а третьи вели между собой беседу о предметах, вызывающих на размышление.
— Знамо, сторона она чужая, черкасская, а все не то, что свейская. Вон я, примером сказать, у этих самых свеев в ту пору, после ругодивской громихи-то, в полону был, так и не приведи Бог! Слова русскова не услышишь: все одна тебе собачья речь, индо одурь возьмет слухаючи, как они там промеж себя лопочут по-собачьи. Ну, а у этих, у черкасов, ничего — можно жить: так, малость какая не подходит к нашей речи, невмоготу им, черкасским людем, говорить по-нашему, потому язык у них слабый самый, суконный, сказать бы, крепости в ем нашей нету, а то все понятно, только, сказать бы, маленько попорчено: у нас вот, примером бы сказать, — девка, а у их дивчина, у нас это парень, а у них будет либо парубок, либо хлопец, а вино у их — горилка… Да и вправду, братец ты мой, горилка она у их, не то что у нас на Москве, на кружечных дворах, Москвой-рекой она разбавлена: не водку пьешь, а Москву-реку, сказать бы, лакаешь. А у черкасов — ни — ни! Водка как есть водка, огонь — так и горит в нутрах горилка — та ихняя… А уж и попили мы ее, братцы, горилки-то этой в Диканьке — вон у его в гостях…
И рассказчик, стрелец, скуластый и коротконогий, почти безо лба и с калмыковатым разрезом глаз увалень, чудом спасшийся от виселицы, когда стрельцы шли за царевну Софию, и потом вместе с другими стрельцами высланный в украйные города, а после в Батурин, в полк Григория Анненкова, на службу Мазепе, — кивнул головой по направлению к казенке, у которой в тени полога виднелись две человеческие фигуры, прикрытые рогожами, а по сторонам их, на свернутых канатах, сидели два рейтара с ружьями и дремали.
— А ты, нешто, бывал у нево? — спросил один из игравших в замысловатую игру со жгутом.
— А как же, за его хозяйкой нас посылал весной Григорий Анненков с Трощинским полковником да с волохами.
— Так, стало, Кочубейшу взяли?
— Вестимо, взяли… И, братец ты мой, вот яга-баба! От миру отведенная… Прибежали мы это в Диканьку утреем, только что раннюю обедню отпели. Спрашивает полковник, где пания будет? В церкви, говорят. Мы в церкву, караул вокруг поставили. Входим, а она стоит на коленях у местных образов да поклоны кладет. Полковник, перекрестившись как след, говорит: «По приказу-де гетмана я приехал за тобою, имать тебя за приставы». — «Плевать-де я, гыть, хотела на вашего гетманишку-изменьщика. Я, гыть, знаю одного царя-батюшку, как-де он повелит, на том-де я стану». А полковник и говорит: «Наш-де, гыть, гетман по указу его царского величества тебя имать приказал». — «Не слушаю-де я, гыть она, вашего гетманишки, бездельника бл… ина сына: покажь царский указ». А полковник — от нам и мигает: возьмите-де ведьму! Мы к ей, а она — уж и ешь ее мухи — Бога не побоялась: возьми да прямехонько царскими-то вратами да в самый алтарь! Мы так и ахнули. Боже милостивый! Баба в алтарь!.. Уж это как есть последнее самое дело — баба в алтарь…
— Это что и говорить! — подтвердили слушатели. — Церковь баба опоганила.
— Ну, она это в алтарь, и мы в алтарь: знамо, приложились допреж к местным образам. Входим, а она за алтарь шмыгнула да как крикнет: «Не пойду с церкви! Нехай постражду меж алтарем, как Захария!»
— Это кто ж Захарий-то?
— Запорожец, сказывали, был такой: поляки его в церкви изрубили.
— Ну и что ж — взяли медведицу?
— Имали… Хотели было эдак под ручки, так куда! Словно волчица в лесу: «Не трошь меня, гыть, погаными руками — сама пойду на плаху!» Ну и пошла, а мы за ей да на двор… А на дворе назавстречь к нам дочка ейная идет, красавица писаная, Мазепина, сказывают, крестница. Уж и красавица же, братцы! Чернокосая, что твоя волошка, белолица, словно свечечка воску белого. Идет и плачет, а за ей, братец ты мой, птица всякая валит — и куры, и гуси, и индейки, журавли, братец, словно робятки за ей идут да в глаза заглядывают. А она только ручкой машет: нету-де у меня ничего — самое-де берут… Жалко ее стало, страх как жалко! А за ей идет старушка старенька, нянька, сказать бы, либо мамка ейная, и в голос голосит… Вот тут мы и попили гарилки этой — в мертвую голову пили, потому погреб казаки ихние, черкасские, распоясали: «Пей, говорят, братцы, кочубеевскую гарилку: он-де супротив нашего батьки гетмана пошел изменой…» Ну и попили!
— А их куда же, Кучубейшу — ту с дочкой?
— В Батурин за приставы привезли.
Солнце клонилось все ниже и ниже, тени от берегов и берегового лесу становились длиннее, досягая чуть не до половины Днепра. Ветерок совсем упал, а вместе с ним упал и парус, лениво болтаясь на снастях. По знаку рослого мужика, стоявшего у руля, солдаты и стрельцы, бросив свою интересную игру, убрали парус. Галера стала двигаться еще медленнее, ее несло только течением.
По берегам Днепра то там, то здесь вытыкалось жилье, белелись из-за зелени чистенькие хатки, пестрели разными цветами да подсолнухами огороды. Кой-где паслись стада. По Днепру скользили иногда маленькие лодочки-душегубки и, завидя московскую галеру с пушками, спешили к берегу.
— Тихая сторона, не то что у нас на Волге, — говорит скуластый стрелец, поглядывая на берег.