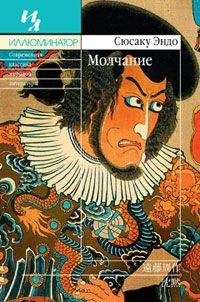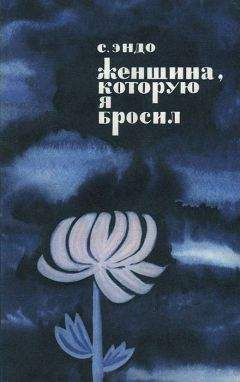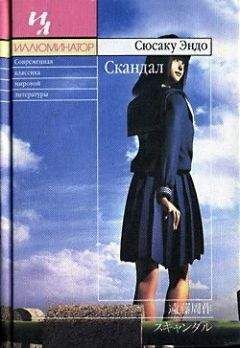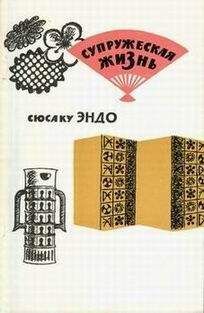Николай Задорнов - Хэда
Больше, чем верфь с тремя шхунами, на Варда, как и на коммодора Адамса, судя по газетам, произвели впечатление люди Путятина.
Сегодня матросы близ полозьев гигантских саней на пристроенных к стапелю площадках, ставили столбы, на которых, видимо, будут рычаги, которыми шхуна будет стронута вместе с полозьями и заскользит. Хорошая теплая погода.
На причал, где шла погрузка, пришел Мусин-Пушкин. Лейтенант Зеленой, разговаривая с ним, побледнел. Матросы столпились около них. Работа прекратилась.
– Что еще? – спросил Джон у юнкера.
– Погиб матрос.
– Кто погиб? – спрыгнув со шхуны, спросил Черный и поправил повязку на голове.
– Букреев умер.
– Боже мой! Боже мой! – приговаривал лейтенант.
– Где?
– Что же он в канун праздника...
– Шабаш, братцы...
– Что у них случилось? – спрашивали на шхуне.
– Переводчик говорит, матрос покончил жизнь самоубийством из-за японки.
– The problem of life![49] – сказал Рид.
...Янка Берзинь, сидя на чурбане, рассказывал про гибель товарища и так разревелся, что не в силах сдержаться, стал хватать себя руками за лицо, как бы желая скрыть горе.
Матросы собрались вокруг. Время шло к обеду. Все занятия в лагере и на плацу прервались. Янку обступили земляки. Их было довольно много в команде: Лепа, Строд, Приеда, Мартынь, Лепинь – как называли их унтера. Мрачные и молчаливые, не мигая, смотрели они на Янку. В отличие от большинства своих товарищей, Берзинь был пылким и чувствительным, в своих порывах часто не владел собой. Зато хороший матрос, цепкий, легкий и верткий, мог кузнечить не хуже мастерового, шить. Первый из всех европейцев и американцев показал японцам, как доить корову. Недавно Ян Берзинь произведен в унтер-офицеры, а потом назначен на склад замещать заболевшего провиантмейстера.
При этом, когда надо, он надевал старый, почерневший парусинник и фартук и ходил работать в кузницу.
В новую должность Янка всегда являлся в начищенных до блеска сапогах, стал поопрятней одеваться, выкручивал усы, отрастив их побольше, не улыбался, его глубоко запавшие глаза строго смотрели на каждого являвшегося по делу.
На него жаловались, что скуп и рачителен к казенному добру, что за копейку и за всякую мелочь взыскивает и придирается.
– Какой формалист оказался наш Берзинь! – удивлялся Пушкин. Но в то же время все знали, что своего труда Янка не жалеет.
И вдруг всю его строгость как ветром сдуло, и перед товарищами сидел не бездушный формалист, а разбитый крем товарищ. Брови выстрижены ершом, усы лихо выкручены, а лицо в слезах.
– Они вместе с Букреевым деньги где-то прятали, и теперь, видно, деньги у него пропали, – идя в казарму, пояснял Мартыньш матросам.
– А ты его самого видел?
– Только что. Он вон за горой лежит... Там уж комиссия. Адмирал туда поехал. Нам велели уйти.
– Сапоги у него украли?
– Кто?
– Неизвестно. Маточкин его увидел. Васька был еще живой и ползал и не мог найти.
– Откуда он шел?
– От японки.
– А я ему давно говорил, что эту ягоду нельзя есть, – вмешался Иосида, – а он не слушал. Ягода ядовитая.
– Ты, наверное, и подвел? – спросил Строд с подозрением.
Японец с ненавистью посмотрел на матроса, но ничего не сказал. Все же Иосида жил в России и что-то понимал! В душе он благодарен, плохого на чужбине не видел.
– Васька пришел из Симода, – сказал Серега Граматеев, – он, видно, за ее отца боялся, ведь ночью приходила полиция, голову ему хотели рубить. Васька ночью перемахнул забор и ушел. Ночевал у нее и задержался. Шел домой, увидел ягоды, и хоть неспелые, а он наелся.
– У него уже прежде украли один сапог, – сказал Маслов, – и он на работу ходил в двух правых сапогах. А когда шел в Симода, я ему дал свои, чтобы не срамиться перед Америкой.
– А в каких же он пошел вчера?
– Он свои старые надевал. Он мои отдал, как вернулся на шхуне.
– Кто польстился на такое отрепье!
– В двух одинаковых сапогах и вора можно найти по следу, – сказал боцман Черный. – Надо всем смотреть на следы, братцы, – где бы ни были, куда бы ни шли – глядите под ноги.
– А что адмирал?
– А вот он, вернулся, подходит на вельботе.
«Это безобразие! Безобразие! – думал Путятин, идя к себе в храм. – Лучший матрос погиб! Ягоды наелся...» И доктор подтвердил, все признаки смерти от отравления.
Лежит Вася Букреев неподалеку от дороги в деревню, в густых кустах, на лужайке, на полпути к Хэда с верфи. Шел откуда-то... Ясно, все ясно!
– Господа! – обратился адмирал к вызванным в храм офицерам. – Букреев в горах наелся ядовитой ягоды... Отец Василий около него и доктор. Но он уже... И мучался, господа, бился, сел и сидел, и пена шла изо рта, как показали видавшие его матросы и японцы. Доктор уже не мог помочь. Отец Василий прибыл, когда он скончался. Японец Ябадоо сказал сегодня мне, что Яся был обречен на это судьбой, ему суждена была смерть в Японии... Но мы-то не можем верить гадалкам, мы не богаделки! Причина не та! Дисциплина пала! Надо принимать строжайшие меры, господа! Дисциплина! Наказывать, но беречь людей! В лесах тут много неизвестных нам растений. Я сам видел ядовитейший сумах. Не сметь пускать людей в лес без местных проводников!
– Господа, мне сказали, что Букреев лежит мертвый и у него сапоги украли, – громко произнес полковник Лосев, входя в помещение. Он только что прибыл с другой стороны бухты.
– Тихо... тихо...
– Уже все известно.
Маточкин и Селезнев принесли на носилках прикрытое тело во двор храма. Их сопровождал матросский патруль.
– Я еще застал его живым, – рассказывал в этот день Маточкин в казарме. – Он все говорил про сапоги и беспокоился. Он, видно, шел от своей и сказал мне, что сапоги не стал надевать, тепло и он шел горой по солнышку разувшись, а сапоги связал веревочкой и перекинул через плечо, как переметную суму. Его схватило, он упал, потом набрался силы, поднялся, а сапог уже не было. Он помирать не хотел, не отыскавши сапоги, и все кругом смотрел, но сапог нигде не было. Мы подошли – он просил Токарева и Федотова, мы все обыскали и не нашли. Кто-то взял.
– Кто мог?
– Наверно, за ним шел кто-то, следил.
– У них шпионы честные, они вещей зря не украдут. Только если по делу!
– Значит, кому-то понадобилось, и взял!
Букреева всем жаль; его кончина пугала. Природа тут чужая, неизвестная, повсюду могут оказаться ядовитые растения. При этом странным казалось дело с пропажей сапог.
– И как он мог отравиться?
– Он сам сказал, что ел ягоду, а она ядовитая. Японцы подтвердили, что эту ягоду нельзя есть, у них знают все.
– Как же она его не уберегла! – воскликнул Берзинь.
– А вот мы все ждали лета!
На ступеньках казармы в задумчивости сидел Иосида.
– Это не ты ли, сволочь, подстроил? – выходя, сказал Маточкин.
– Нет, я говорил не есть этой ягоды. А он не верил.
Через день, под звуки духового оркестра, игравшего «Не бил барабан среди мутных полков», морские гренадеры внесли гроб Букреева во двор храма Хосенди.
Адмирал, офицеры у самой могилы. Шестьсот матросов выстроились во дворе и на улице. После чтения отца Василия вскинуты ружья и грянули залпы. Вася Букреев, на морских ремнях, навеки опускался в чужую землю.
Его могила справа от ворот, когда входишь во двор с улицы. Тут же корявое дерево сарубэри с белой скользкой корой, по которой, как Ябадоо рассказывал Васе и его товарищам в первый день приезда матросов в деревню, даже обезьяна не может влезть. Сейчас дерево в цвету. На могиле поставили крест. Строй моряков во главе с адмиралом в молчании отдавал последний долг. Дочь Пьющего Воду зажгла над свежим холмом душистые палочки.
– Яся... Яся... – шептали, подходя и кланяясь, жители Хэда.
...С тех пор кустарник, на котором вырастают ягоды, погубившие матроса Букреева, в деревне Хэда называют «Яся-короси», что означает: «Смерть Яся».
Глава 17
БОГЕМА
– Сашка, ты уснул?
Из-за бумажной перегородки никто не отзывался.
– Храпит!
Юнкера Лазарев и Корнилов вышли на террасу. Ветра нет. Священник на днях объяснял, что у богатых и знатных террасы строятся на втором этаже так, что луна видна всю ночь, всегда можно наблюдать ее прохождение и любоваться. Отец Василий водит дружбу с бонзами и добывает подобные сведения.
Капитан приказал завтра с утра идти в чертежную. Подробно все покажет унтер-офицер Григорьев. Офицерам некогда, заняты подготовкой команды к отплытию, ремонтом шхуны и в командировках.
– О боже, боже! Капитан все боится, что мы бездельничаем! Как будто сам в нашем возрасте не жуировал!
Скажи-ка, дя-дя-я,
ве-еедь недаром, –
резким голосом запевает Корнилов.
Москва, спалё...
Москва, спаленная по-жаром...
– Господа, не вовремя! – сказал через открытое окно Елкин, занимавшийся за большим столом.
– «Что толку в э...» – запел через некоторое время юнкер Лазарев.