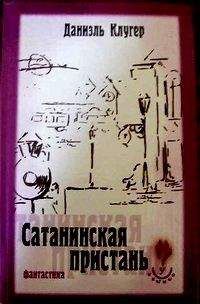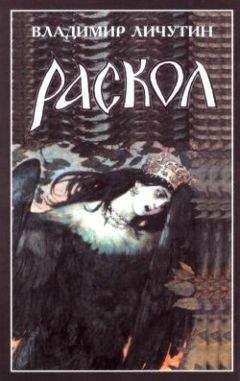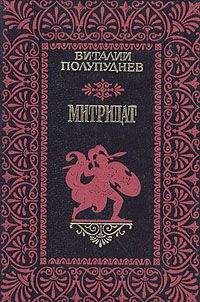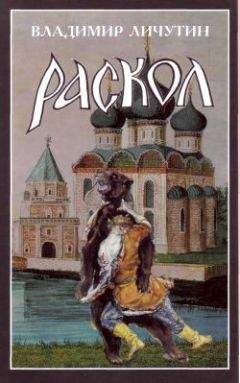Владимир Личутин - Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга I. Венчание на царство
«Не норовилосе, так не засватал бы!»
Боярин задул свечи, как-то ловко, неуловимо сбросил одежды, стукнувшись о пол коленями во тьме, опустился перед невестою на пол, положил жалобную свою голову в подол сарафана» шитого из атласистой тяжелой парчи. Федосья по-девчоночьи прыснула.
«Ты, Глеб Иванович, не ратиться ли со мной норовишь?»
«Фе-ня-я, – снова позвал Глеб Иванович жалобно, – жена ты моя, богоданная... Бо-го-дан-ная», – повторил он последнее слово с особенным смыслом. А много ли девушке надо? Ей бы медовое слово в сердце заронить; юница ушами любит. И душа Федосьина воспрянула, потекла навстречу еще недавно чужому человеку. «Муж жене, яко глава на церкве», – отозвалось внутри и отдалось по телу робким согласием. Федосья заглубила пальцы в мужние волосы, тонкие, какие-то детские; как горностаевый мех огладила.
«Не приторапливай меня, ладно? Я тебя любить буду». Пальцы девичьи замешкались, вдруг скользнули в ворот срачицы по жиловатой, упругой шее. «Господи, да ведь сам Морозов пред нею на коленях, – обдало Федосью жаром. – Я отныне Мо-ро-зо-ва! Самой государыне свойка».
Тут в Чудовом монастыре ударил колокол. Пробил час боевой.
«Я ж как горлица из клети слетела к тебе».
На это признание Глеб Иванович лишь пуще вжался лицом в невестины колени. От поста ли, от девичьего близкого тела закружилась, такою ватною сделалась голова.
В дверь постучали, справились о здоровье, де, свершилось ли, нет доброе меж молодыми. Гости хотят знать.
«Здоровьем Бог не обидел. Не тревожь-ка до утра, дядько», – отозвался Морозов. Господи, как желанно и покойно на сердце. Чего еще нать на сем свете мне, многогрешному. Заперхало в горле у Морозова, слеза выпала на золотной бархат, проточила шелка сквозь, обожгла девичье тело.
«Родной мой. Ты муж мне. Ляжем до утра, как брат с сестрой. Мати сказывала: де, первую ночь не знатися, чтобы овечкам велось. Первую ночь не грешити, так волк овечек не заест».
«Хозяюшка моя, ах ты Боже, – втайне умилился Глеб Иванович. – Гляди-ко, из темницы едва выпросталась, из маменькиных ежовых рукавиц, а уже хозяйка. И каково с мужем-то урядила юница. Запрягла тихохонько, да и управила...»
Где-то далеко отгремели по брусчатке колеса колымаг, отвозящих свадебщиков, чей-то возбужденный голос прощально прорезался от красного крыльца. Невидимые во тьме летали по потолку ангелы, и райские птицы склевывали лазоревые цветы с заневестившихся яблонь. Огонь костров бледнел на стеклах, перестукивали конские копыта, неустанно ездил у опочивальни слуга, выня меч наголо. Вот и утреню заблаговестили в Чудовом монастыре, разжижла тьма. Молиться пора. С синими подглазьями лежала бессонная Федосья и, приподнявши тяжелую голову, вроде бы сторожила мужний покой, выглядывая морщиноватое лицо с белесым боевым шрамом у правого виска. Федосья грустила, неслышно всплакивая. Невестино золотное платно лежало на стуле. Иногда ногою Федосья будто случайно касалась мужнего тела и обжигалась кипятком, неведомо для чего пытая себя.
«Вот старичина, разлегся на постели, как колода», – однажды подумалось сурово, и Федосья пытливо, с настороженностью, боясь, что подслушали ее грешную мысль, пригляделась к хозяину. У боярина оказались длинные, слегка загнутые ресницы, и густая тень в обочьях словно нарисована сажей. Лицо было каменным, надменным, неотмякшим, и Федосья верно знала, что муж не спит и сердится.
«Ты не гневайся, Глеб Иванович, не приторапливай. Дозволь попривыкнуть к тебе, мой господине», – Федосья, подластиваясь, вдруг решилась, двинула ворот рубахи, робко поцеловала грудь против сердца. Прикосновение к чужой коже было странным, солоноватым. Боярин вздрогнул резко и затомился. Томление это перелилось в Федосью, заполнило еще неплодную смоковницу; не совладать бы ей с мохнатою мышою, когда сердце близко к обмороку, и муж благоверный вдруг стал куда ближе матушки родимой. Скажите, куда подевалась зорко стерегущая душа, если тело натянулось и зазвенело, как молодая береза под ветром... Да тут не ко времени в стену свистнули горшок глиняный, посыпались на пол черепины: это свекровь, будь она неладна, явилась подымать молодых с кровати: «Вставайте! Урядьте, живо толком поладьте, будить иду!» Едва помедлив, отпахнула дверь, вошла в опочивальню решительно, на громах, зорко, по-старушьи оглядев спаленку, намерилась сдернуть с молодых голубок лебяжье одеяло, примечая, кто быстрее соскочит с постели. Хотелось ей, чтоб сын не зазевался, – ведь «кто первым скочит, тому легше год прожить. А то чирьи замучают». Но сын не попался на стародавний обычай, хмуро остерег, едва приоткрыв свинцово набухшие вежды, и зрак, просочившийся на мать, был холоден и угрюм: «Эх, мать ты, мать, – укорил, – выпугала наших ангелов на таких ранях...»
Тут принесли легкое да питься ковш; пили-ели молодые, не глядя в лицо. В полдень срядился свадебный поезд к жениным родителям, к свату со сватьей. Анисья Соковнина поднесла зятю стопу блинов, де, хвались, зятек. Морозов, смутясь, положил теще на верхний блин разменные деньги, признался: «Я еще не трогал мол оду жену». Тогда над головами молодых на полицу положили хлебины, поставили на них свечу и зажгли. Пусть знают гости, что в мыльню идти рано, молодая еще не распечатана.
Лишь другим утром пошла невеста в мыльню и с нею мать, и иные ближние люди, и сваха, и осмотрели сорочки ее, нашли три пятонышка брусничной алости и показали те сорочки жениховой матери для того, что девство ее в целости совершилось...
...Радуйся, боярин Глеб Иванович, пой аллилуйю, зазеленела бесплодная смоковница: от твоего кореня нежданно завязался росток. Послал Господь мальчонку тебе в утешенье, Федосье на радость, чтоб не пресеклась родова Морозовых, чтоб не растряслось попусту издавна нажитое, есть кому ныне передать дивную гобину, бессчетное имение; услышал Сладчайший ваши молитвы и искренние мольбы, наполнил Федосьино тоскующее чрево.
Муж тихо отпятился от проруба в глубину посиневшего померклого от мокрети сада; вдруг прорвался с гнилого угла дождь-косохлест, Илья Пророк прокатился на телеге, пробуждая землю от спячки; монашена вошла из предбанника в мыльню и, не спросясь, приняла берестяную плетушку с сыном, не дозволила нарадоваться.
«Ты кто?» – с тревогой вопросила Федосья, смутно припоминая, что где-то знавала это притягливое лицо.
«Я матерь твоя духовная», – смиренно ответила Меланья, не подымая взора.
Глава шестнадцатая
Господи и Владыко животу моему, дух уныния и небрежения, сребролюбия и празднословия отжени от мене. Дух же целомудрия и смирения, терпения и любви даруй ми рабу твоему...
Велика, завидно пространна и вельми обильна Святая Русь.
На что уж матер и ухватист орел в своем медлительно-торжественном дозоре, как бы ни подпирали его свистящие крыла воздушной реки, но и ему, гордому в своем одиночестве, не взнятися в тот солнечный горний аер, откуда лишь и возможно объять протягновенную северную землю, всклень залитую дремотными кондовыми лесами, где порубежному гостю без престольного пристава и стрелецкой вахты вольно пропасть и загинуть ни за понюшку свейского табачку. Ибо нынче пред взором невсклоненный лес и дикий зверь за жуткой в ночи выскетью, и завтра тот же лес с засеками и внезапным разбоем, и до самого Скородома провожает съедной комар, от которого одна защита – костер; и так по всей Московии, и лишь речные переправы с прохладою от воды, да рыжие излучины со скобкою сизо-серой деревеньки, да пожни с шеломами копен, да новины на гарях, еще розовые от иван-чая, да белые с золотом церковки, да привальный стоялый мед в ковше из руки хлебосольного воеводы, да копченый телячий стяг, да баранья зажаренная лопатка с вулканчиками застывшего жира, да глетчик топленого молока, да кринка зелеяницы в сметане и возвеселят страдающее от дорожных тягостей сердце. И так изо дня в день, и не в один месяц. И пересчитывая возы, и дорожные укладки, и многую челядь, и всякие посольские и купецкие дары, невольно воскликнешь: Господи милостивый, куда, в какие дремучие аидовы теснины сподобило меня угодить; и самый равнодушный к скорбям человечишко примется неустанно кститься, чтобы оберегла его судьба вдали от родимых домов. И тут-то поймешь вдруг, с внезапным прозрением, сколь велика, таинственна и непостижима барбарская Русь. «Не дуйся, коровушка, не быть бычком...»
Глядите, вон пыщится в застарелой гордыне вещий ворон-каркун, случайно залетевший на Москву из Звенигородских крепей, малой соринкой витает он по небесному крутосклону, но и его злому, немигающему взгляду невмочь усторожить даже потайные укромины Крылатского и Мышцей, Сукова и Озарецкого, тех дворцовых сел, близ которых сбивают охотники царскую медвежью осеку, выискивая опрелого с зимы зверя на болотной поеди. А что медведко, он на Руси не диво, он, лешачина, ратится за каждою горушкою, чуть ли не приступя к Московскому крому, радуя и гневя своими выходками крестьянскую душу. К самым холмам третьего Рима, к семи сосцам блаженно разлегшейся волчицы, обвеивая ее хвойным ветром, наплывают кунцевские пустоши, ухороны лосиных семей, кои травят в зиму лошьими собаками; под Коломенским окладывают лис-сиводушек, травят гончаками зайца; под Можайском объезжают и выманивают волка. В царской псарне на Старом Ваганькове томятся по охоте, наскучиваясь и копя зло, гончие и борзые, меделянские и ищейные кобели, лошьи собаки и угрюмые страшные британы.