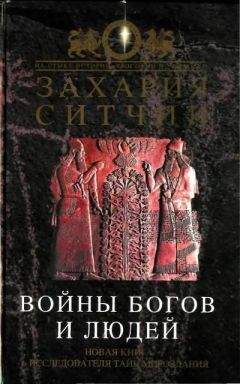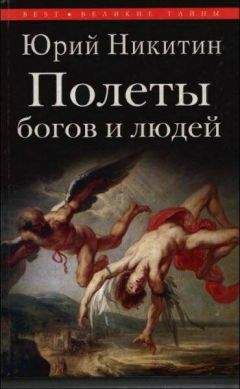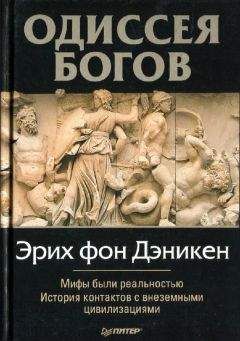Н. Северин - Звезда цесаревны
И вот именно об этом и намеревалась сказать Лизавета цесаревне, когда зашел разговор про Меншиковых. Солгать на вопрос, не слыхала ли она что-нибудь про них, Лизавете не хотелось, а сказать правду было опасно, и она решила обратить внимание своей собеседницы на другой предмет.
— Ваше высочество изволили нам разрешить откровенно вам сказать, когда мы решим обвенчаться с Иваном Васильевичем, — начала она, притворяясь, что не расслышала последнего ее вопроса за хлопотами уложить получше парадное платье, чтоб не смялось, — так мы и рассудили покончить с этим делом после Рождества, вернувшись сюда из Москвы.
— Давно бы так! — вскричала обрадованная цесаревна. — Уж мы с Маврой Егоровной отчаивались, чтоб ты когда-нибудь сжалилась над бедным Иваном Васильевичем. Мы, значит, вернувшись из Москвы, и примемся готовиться к вашей свадьбе.
— Моя свадьба вдовья: чем тише будет да скромнее, тем приличнее, — заметила Лизавета.
— Ну, нет, я на это не согласна! Ты во второй раз венчаешься, а Иван Васильевич в первый, пусть, значит, все будет, как у людей. В посаженые проси Мавру Егоровну и Шувалова, а в шаферы Шубина. А у Ивана Васильевича я буду посаженой с Шепелевым… На свадьбу я подарю тебе вот это самое платье, которое ты мне теперь укладываешь, — продолжала она, одушевляясь перспективой приятного домашнего празднества как вознаграждения за неприятную необходимость присутствовать при торжестве своих врагов, среди людей, жаждущих ее гибели.
Праксиной было больно, что ей не удалось исполнить желание Ермилыча, убедительно просившего ее замолвить словечко цесаревне за несчастных колодников, томившихся в нужде и лишениях, таких жестоких, что трудно было себе представить весь ужас их положения. Совесть ей говорила, что грешно с ее стороны откладывать заботу о них из боязни причинить беспокойство цесаревне и себе. Разве не должна была она воспользоваться случаем попытаться во что бы то ни стало облегчить их судьбу? И мысль, что каждый поступил бы в данном случае, как она, не заставляла смолкнуть упрекавший ее в жестокосердии и в эгоизме внутренний голос.
А между тем в настоящее время в Москве не было человека, который, будучи в трезвом уме, решился бы упомянуть при царском дворе имя Меншиковых, хотя, без сомнения, многие про них вспоминали благодаря заносчивости и мстительности их преемников.
Кто знает, может быть, и сам царь мысленно сравнивал гордую красавицу, смотревшую на него сверху вниз своими большими светлыми глазами, взгляд которых, невзирая на желание придать им нежность и преданность, оставался безжалостно властным и холодным, с печальной и кроткой девушкой, обменявшейся с ним кольцами несколько месяцев тому назад перед священником.
— Ему, кажется, и выспаться не дадут, — рассказывала цесаревна после утреннего визита к своему царственному племяннику. — Вид у него самый жалкий — страсть как похудел с тех пор, как мы не виделись. Меня он в первую минуту как будто даже испугался, вот как много наговорили ему про нас дурного! Но потом, после этикетных реверансов я подошла к нему да заговорила с ним приватно, вспомнил прошлое, глазенки его радостно засверкали, и он хотел мне что-то такое сказать, да тут подошел Алексей Григорьевич, и он весь съежился, а в глазах опять явилась подозрительность и страх… Поди чай, колдуньей представили, ведьмой на помеле, а дом мой бесовским притоном, полным всякой нежити и хохлов, — прибавила она с горькой усмешкой. — Ведь хохлы-то у нас все колдунами слывут. Надо мне непременно с царем по душам поговорить и все ему, как следует, представить: одуреет он у нас совсем с одними Долгоруковыми, надо свежего воздуха ему в душу напустить, чтоб не очумел вконец, — продолжала она с возрастающим одушевлением, от которого так много выигрывала ее величественная, жизнерадостная красота. — Кое-что ему напомню, перестанет тогда меня бояться!
«Теперь бы ей сказать», — вертелось в голове Лизаветы в то время, как она убирала снятые с цесаревны драгоценные наряды, а цесаревна, полулежа в глубоком кресле перед камином, смотрела на разгоравшиеся в нем дрова. В высоком, глубоком покое никого, кроме них, не было, и более удобной минуты трудно было найти. Но не успела она открыть рот, чтоб приступить к щекотливому разговору, как вошла Шувалова, и пришлось волей-неволей снова отложить обещание, данное куму.
Мавра Егоровна сопровождала свою госпожу, и рассказывать ей с том, что сама она видела и слышала, было не для чего. Как и все, заметила она смущение и угрюмость царя, а также как он избегал смотреть на тетку; видела она также собственными глазами торжество фамилии Долгоруковых и их приверженцев — торжество, омраченное отчасти неотразимыми прелестями цесаревны.
— Что бы вам, ваше высочество, задать им праздник у нас, в Александровском! Показали бы мы им, как люди с чистой совестью веселятся, — сказала Шувалова, присаживаясь к столику со шкатулкой из розового дерева с жемчугом, который она принялась нанизывать на крепкую, вощеную нитку.
Мысль эта пришлась как нельзя больше по вкусу цесаревне.
— И то! — весело вскричала она. — Сегодня же закину об этом словечко царю. Мы им такую охоту на зайцев да на волков устроим, какой Долгоруковы и во сне не видывали! Потом катанье ночью, при свете факелов, в парке, иллюминированном разноцветными фонарями… В деревьях-то, покрытых инеем, как будет чудесно! А каких он у нас песенников услышит! Заставим и слепца нашего, Григория Михайлова, ему родную песню спеть, а малороссы наши пусть перед ним по-своему пропляшут. Веселили же мы его в Петербурге при Меншиковых, почему же не позабавить его при Долгоруковых?.. А что-то теперь поделывает разрушенная невеста? — продолжала она все еще с иронией, но, как показалось Лизавете, на этот раз не без оттенка жалости в голосе. — Кстати, — прибавила она, обращаясь к Праксиной, — я вчера спрашивала у тебя, не слыхала ли ты чего-нибудь про Меншиковых, и ответа на мой вопрос не дождалась: ты заговорила про свою свадьбу… Почему не хочешь ты со мною говорить про Меншиковых, тезка? Я давно замечаю, что ты избегаешь даже имя их при мне произносить, почему?
— Не хочется расстраивать ваше высочество неприятными воспоминаниями.
— Ну, то, что происходит теперь, так скверно, что, пожалуй, вспоминать про прошлое даже отрадно, — со вздохом заметила цесаревна. — Я часто про Меншиковых вспоминаю, и мне досадно, что ни от кого не могу ничего про них узнать… Ты, верно, что-нибудь про них слышала, тезка?
— Слышала, ваше высочество, — решилась ответить Лизавета, притворяясь, что не замечает знаков, которые ей делала испуганная Шувалова.
— Скажи мне все-все, что ты слышала! Я хочу знать… От кого ты об них слышала? Кто там был? Да не бойся же, глупая! Разве я могу тебя выдать? Чего же ты боишься?
— Одного только — огорчить ваше высочество, ничего больше, и, если вы приказываете, я вам все скажу, что узнала о них от человека, который прямо оттуда, из Березова, и который их видел, говорил с ними…
— Говори, говори!
Лизавета стала рассказывать слышанное от Ермилыча.
Долго длился ее рассказ. В то время, как она постепенно одушевлялась под впечатлением слышанного от старика, в воображении ее воскресали, как живые, картины ужаса, тоски и отчаяния, переживаемые сосланными и переносимые ими с таким изумительным терпением и душевным величием. Передавала она эти подробности так живо и красноречиво, что слушательниц ее мороз продирал по коже, и сама она холодела от мысленно переживаемых чужих страданий.
Короткий зимний день подошел к концу, и комната погрузилась во тьму. В камине давно прогорели дрова, и начинали уже подергиваться золой уголья. Чтоб не нарушать настроения, которому и она тоже невольно поддалась вместе с цесаревной от рассказа Праксиной, Мавра Егоровна тихонько поднялась с места и подложила дров в камин… Забегали по уголькам огненные языки, ожили пестрые цветы ковра, покрывавшего пол комнаты, забелел кружевной шлафрок цесаревны, заалели туфельки на ее стройных ножках, вытянутых перед камином, и выступило из тьмы ее побледневшее от душевного волнения лицо с широко раскрытыми от ужаса и изумления глазами.
— А она… Мария, бывшая царская невеста… перед которой все здесь преклонялись, на которую мы все смотрели как на будущую царицу?.. Видел он ее? Очень она несчастна? Очень переменилась? Боже мой, Боже мой, как можно жить в таких условиях! Как можно не сойти с ума!
— Ваше высочество, дозвольте мне вам в другой раз рассказать то, что я узнала про княжну Марию: вам скоро пора одеваться, чтоб ехать во дворец, и я боюсь…
Сбивчивое и растерянное возражение Праксиной прервали на полуслове. Цесаревна догадалась, что она не желает продолжать свое повествование при свидетельнице, и, повернувшись к Шуваловой, она попросила ее распорядиться о каких-то подробностях ее прически, тут же ею придуманных, о которых надо было переговорить с волосочесом.