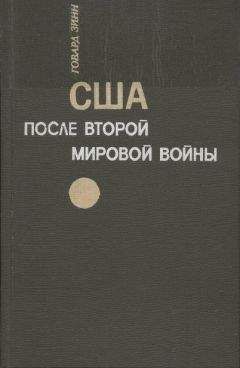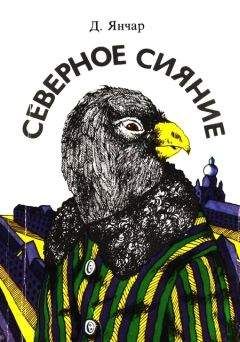Серена Витале - Пуговица Пушкина
Пушкин вычеркивал и другие строки, редактируя первый проект письма к голландскому послу: «Вы, может быть, желаете знать, что мешало мне до сих пор опозорить вас в глазах нашего двора и вашего. Я скажу вам это». Видимо, этот прием самому Пушкину показался сомнительным, так как 21 ноября он, противореча себе, написал Бенкендорфу:
Граф!
Считаю себя вправе и даже обязанным сообщить вашему сиятельству о том, что недавно произошло в моем семействе. Утром 4 ноября я получил три экземпляра анонимного письма, оскорбительного для моей чести и чести моей жены. По виду бумаги, по слогу письма, по тому, как оно было составлено, я с первой же минуты понял, что оно исходит от иностранца, от человека высшего общества, от дипломата. Я занялся розысками. Я узнал, что семь или восемь человек получили в один и тот же день по экземпляру того же письма, запечатанного и адресованного на мое имя под двойным конвертом. Большинство лиц, получивших письма, подозревая гнусность, их ко мне не переслали.
В общем, все были возмущены таким подлым и беспричинным оскорблением; но, твердя, что поведение моей жены было безупречно, говорили, что поводом к этой низости было настойчивое ухаживание за нею г-на Дантеса.
Мне не подобало видеть, чтобы имя моей жены было в данном случае связано с чьим бы то ни было именем. Я поручил сказать это г-ну Дантесу. Барон Геккерен приехал ко мне и принял вызов от имени г-на Дантеса, прося у меня отсрочки на две недели.
Оказывается, что в этот промежуток времени г-н Дантес влюбился в мою свояченицу, мадемуазель Гончарову, и сделал ей предложение. Узнав об этом из толков в обществе, я поручил просить г-на д’Аршиака (секунданта г-на Дантеса), чтобы мой вызов рассматривался как не имевший места. Тем временем я убедился, что анонимное письмо исходило от г-на Геккерена, о чем считаю своим долгом довести до сведения правительства и общества.
Будучи единственным судьей и хранителем моей чести и чести моей жены и не требуя вследствие этого ни правосудия, ни мщения, я не могу и не хочу представлять кому бы то ни было доказательства того, что утверждаю.
Во всяком случае надеюсь, граф, что это письмо служит доказательством уважения и доверия, которые я к вам питаю.
С этими чувствами имею честь быть…
Пушкин был уверен, что его письмо к Геккерену повлечет за собой дуэль (он и впрямь читал его графу Соллогубу как возможному секунданту), хотя к этому времени даже поединка было недостаточно, чтобы смирить его ненависть. Но Пушкин также знал, что его письмо к Бенкендорфу сделает поединок невозможным: полиция, да и царь самолично вмешались бы; а его уже и без того внушительный список врагов увеличится — люди, не зная, что случилось за минувшие две недели, высмеют поэта, который предпочел втравить в это дело Третье отделение вместо того, чтобы перебирать свое грязное белье дома или — еще лучше — в каком-нибудь углу в предместьях Петербурга. Одно это, не говоря уж о прочих обстоятельствах и событиях, должно было бы остановить его и послужить убедительной причиной не посылать никакого письма. Но он не уничтожал черновиков. Напротив, он поместил их в безопасное место — они могли бы все же пригодиться.
Вяземский написал Александре Осиповне Смирновой 2 февраля 1837 года: «Да, конечно, светское общество его погубило. Проклятые письма, проклятые сплетни приходили к нему со всех сторон. С другой стороны, причиною катастрофы был его пылкий и замкнутый характер. Он с нами не советовался, и какая-то судьба постоянно заставляла его действовать в неверном направлении». Но в течение нескольких дней тон писем Вяземского друзьям и знакомым претерпевает значительные изменения; противореча живописным интерпретациям трагедии, он предлагает более детальную, хотя уже в значительной степени искаженную, версию современникам и потомкам.
9 февраля он написал, что «чудовищные и все еще тайные интриги» плетутся против Пушкина и его жены. «Время, может быть, раскроет их», — добавил он. И 10 февраля: «Чем более думаешь об этой потере, чем больше проведываешь обстоятельства, доныне бывшие в неизвестности и которые время начинает раскрывать понемногу, тем более сердце обливается кровью и слезами. Адские сети, адские козни были устроены против Пушкина и жены его. Никто не знает, разъяснится ли все со временем, но и того, что мы сейчас знаем, уже достаточно. Супружеское счастье и согласие Пушкиных было целью развратнейших и коварнейших покушений двух людей, готовых на все, чтобы опозорить Пушкину».
И 16 февраля: «Пушкин и жена его попали в гнусную западню». Было предположение, что на второй неделе февраля 1837 года близкие друзья убитого поэта узнали нечто, что превратило их чувства жалости к «несчастной жертве неудачных обстоятельств и собственных страстей» в сильную, безудержную ненависть к Дантесу и Геккерену — кое-что настолько серьезное, что было решено оставить это в тайне навсегда.
Говоря словами Александры Араповой в истинно ее стиле — с дополнениями, исправлениями и порывами ее пылкого воображения, посылка мерзких «дипломов» была первой отравленной стрелой, вынуждавшей Пушкина заметить чрезмерно рьяного поклонника его жены… Он начал упрекать ее в легкомыслии и флирте, потребовав, чтобы она отказалась принимать Дантеса и старательно избегала любой беседы с ним в обществе, чтобы холодным обращением положить конец его оскорбительным надеждам. Послушная как всегда, Наталья Николаевна прислушалась к пожеланиям мужа, но Дантес был не тем человеком, которого можно легко смутить. И в этот момент появляется человек, которому принадлежит неоднозначная роль в разворачивающихся драматических событиях, — сам голландский посланник. Старик Геккерен всячески заманивал Наталью Николаевну на скользкий путь. Едва ей удастся избегнуть встречи с ним, как, всюду преследуя ее, он, как тень, вырастает опять перед ней, искусно находя случаи нашептывать ей о безумной любви сына, способного, в порыве отчаяния, наложить на себя руки, описывая картины его мук и негодуя на ее холодность и бессердечие. Раз на балу в дворянском собрании, полагая, что почва уже достаточно подготовлена, он настойчиво принялся излагать целый план бегства за границу, обдуманный до мельчайших подробностей, под его дипломатической эгидой, предлагая ей весьма заманчивое будущее; и чтобы сломить сопротивление ее страдающей совести, он напомнил ей про широко известные и многочисленные обманы ее мужа, которые дают ей право чувствовать себя свободной отплатить тем же. Наталья Николаевна позволила ему закончить и затем, подняв на него свой вечно сияющий взгляд, ответила: «Даже если допустить, что мой муж совершил в отношении меня предосудительные поступки, которые вы приписываете ему, если допустить, что колебаний, по крайней мере с моей стороны, не существует, что все эти ошибки имели такую природу, чтобы заставить меня забыть свои обязанности перед ним, вы все же упускаете из виду самый главный момент: я — мать. Если бы я зашла так далеко, чтобы отказаться от моих четырех детей в их нежном возрасте, жертвуя ими ради преступной любви, я была бы самым мерзким созданием в моих собственных глазах. Нам нечего больше сказать друг другу, и я требую, чтобы вы оставили меня…» Есть повод думать, что барон продолжал роковым образом руководить событиями.
Источником информации для Пушкина, причиной его ярости и обвинений, должно быть, послужила Наталья Николаевна; мы знаем от Вяземского, что после получения анонимных писем жена облегчила свою душу признаниями мужу не только относительно ее собственных оплошностей и поведения молодого человека по отношению к ней, но также и о поведении «старого Геккерена, который старался склонить ее изменить своему долгу и толкнуть ее в пропасть». До этого момента источник нашей информации и наших сомнений — это скудная горстка фактов, рассказанных несколькими свидетелями. Данзас вспомнил, что после пребывания летом на Островах и новой непрекращающейся волны сплетен Пушкин «отказал Дантесу от дома». Согласно Долли Фикельмон, однако, «он совершил большую ошибку, разрешив своей жене выезжать в свет без него», — и Натали продолжала видеться с Дантесом на приемах, в театре и в домах друзей и «не могла отвергать или останавливать проявления этой необузданной любви… Казалось, что она бледнеет и трепещет под его взглядами, но было очевидно, что она совершенно потеряла способность обуздывать этого человека и он был решителен в намерении довести ее до крайности…» Княгиня Вяземская была единственным человеком, кто попробовал предупредить Натали, открывая ей свое сердце как одной из собственных дочерей; вы уже не ребенок, сказала ей княгиня, и должны понимать возможные последствия своего поведения. Под конец Натали заговорила: «Мне с ним весело. Он мне просто нравится. Будет то же, что было два года сряду».