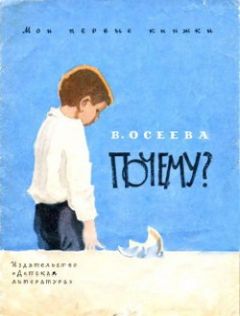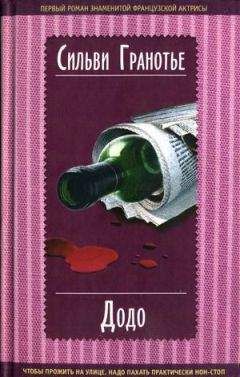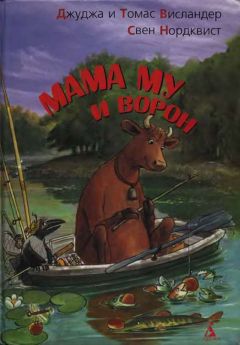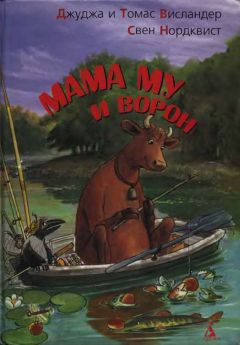Лейла Вертенбейкер - Львиное Око
— Ньет. Nada[59]. Скукотища. Мир на земле и корсеты, похожие на пояса девственниц, на синьоринах.
Мы отправили мой багаж в гостиницу «Бристоль» — на мое имя был открыт счет, поскольку приехал я неофициально, — а потом прошвырнулись по вычурным улицам австрийской столицы. Это была моя идея. Карл никогда не ходит пешком. А я люблю ориентироваться в пространстве, времени и обстановке. Кроме того, я разработал ряд собственных теорий успешного шпионажа. Надо бросаться в глаза! Половина агентов, которых арестовывают, попадают в тенета собственной предосторожности.
Я не имею в виду дипломатическую разведку. Все дипломаты — заведомые шпионы и любители вмешиваться в дела чужих стран. Я был гражданином двух государств и мог поднимать флаг своей второй родины лишь в мыслях. О чем бы подумала моя мать, узнав, что я состою на тайной службе у ее родины, могу лишь догадываться. Полагаю, она бы меня возненавидела, поскольку я платный агент. Однако, Gnädigste[60], я люблю фатерлянд, который и является моей истинной родиной. За него я и умираю сейчас. Наверняка ты это одобряешь. Однако мне, как шпиону, доверяли лишь наполовину, поскольку я лишь наполовину немец. Второй же половине следовало платить за преданность, кроме того, обе мои половины нуждались в средствах.
На Кёртнерштрассе Карл остановился перед афишей:
ВОЗВРАЩЕНИЕ МАТА ХАРИ
— Ну и что?
— Видел ее?
— Даже не слышал, кто это такая.
— Ах вы, берлинские провинциалы! — поднял левую бровь Карл. — Я тебя свожу.
Я посмотрел на текст.
FETES JAVANAISES UND HINDOUES[61]Церемониальные королевские песнопения.
Приветствие Королю (индусский оркестр под управлением профессора Инайет-хана).
Легенда о Принцессе Волшебного Цветка, рассказанная языком танца и жестов госпожой Мата Хари.
Тамбла (соло).
Дитруба (соло).
Песнопение Жрецов Храма Камы, исполняемое профессором Инайет-ханом.
— Lieber Gott[62]. Да это скучнее любого официального обеда, — раздраженно произнес я. — С любви ты переключился на Kultur?
Карл звонко и заразительно рассмеялся. Словно школьники, мы стояли и фыркали от смеха, а прохожие обходили нас со всех сторон. Я не понял, что смешного в моих словах, да меня это и не заботило. В конце концов Карл вытер глаза и взял меня под руку. Мы пошли дальше по Грабену, все еще посмеиваясь. Я почувствовал себя чересчур легкомысленным. В Берлине так не смеются. Я никогда не бываю совершенно счастлив, даже если счастлив. На плече у меня сидит «мартышка». Это беспристрастный наблюдатель, судящий со стороны мир и меня, Франца ван Вееля. Она — это я и не я. Не будь ее, я, возможно, стал бы самым добросовестным и довольным собой учеником. Или же самым отъявленным циником. В ее присутствии я всегда помню о противоречиях собственной натуры. Мата Хари приручила меня, и за это я любил ее. Она также насмехалась надо мною, и за это я ее наказал.
— Франц, старый проказник, — сказал Карл, — ей-Богу, именно ты тут и нужен.
— Хочешь пригласить меня пообедать?
— А какая пища — ангельская! Еще никому ниже генерала или посла не удавалось провести вечер в обществе Мата Хари. Никому из тех, у кого в кармане меньше миллиона. Что ты на это скажешь?
— На что именно, лопух лопоухий? Какое мне дело до этой танцовщицы Как-Бишь-Ее-Там?
— Держу пари на десять тысяч крон, что тебе ее не завалить!
— У меня на пари нет и пфеннига. Кроме того, я не сплю с женщинами за деньги. — Мартышка на моем плече скорчила гримаску. В действительности я спал с женщиной ради того, чтобы провести месяц в Швеции, охотясь на медведей. Что из того, что я не получал за это деньги. В то время свой поступок я назвал актом милосердия. Женщина, хотя и богатая, нуждалась в милосердии.
— Фу-ты ну-ты! Но овчинка стоит выделки. А если ее выделаешь, дай мне знать. И предъяви доказательства твоей победы. Только и всего. Я оплачиваю твои удовольствия. Чем не сделка!
— По рукам! — отозвался я. — Должен признаться, ты весьма расточителен.
— Mon père был Esel[63], — жизнерадостно ответил Карл.
Такое отношение к родителям мне не по душе. Ненависть вызывает ответную реакцию. А легкомысленность меня раздражает. Если к своим предкам ты относишься неуважительно, пожнешь то, что посеял.
— Заткнись, не будь сам ослом, — одернул я приятеля.
— Так оно и есть, — как ни в чем не бывало ответил Карл. — Pater[64] не давал мне денег, чтобы выработать во мне отвращение к их трате. А я, наоборот, теперь получаю от этого удовольствие.
Отец его был подлым скупердяем. Мой — жалким банкротом. И все же собственного родителя я ненавидел больше, чем Карл — своего.
— Если эта Мата Хари мне не понравится, считай, что сделка не состоялась. — Мысленно я погрозил пальцем своей «мартышке». Жадность была не самым главным моим пороком.
— Atkozott![65] Само собой.
Посмотрев друг на друга, мы, словно по команде, подняли брови, закрутили усы и снова расхохотались.
Хотя в Вене я не был три года, у меня возникло такое ощущение, словно я ее и не покидал. В любую минуту я мог увидеть старого Франца-Иосифа, проезжающего в своей коляске с золочеными спицами и с бородатым богемцем на козлах. Пока на троне пребывал худощавый, стройный император, что могло измениться в веселой столице? Чтобы началась война, понадобился бы мрачный эрцгерцог Франц-Фердинанд.
Пока Карл легкомысленно болтал, я, словно во сне, шел рядом с ним под аккомпанемент вальсов Штрауса и Легара. Даже произношение мое стало не таким резким.
Я поинтересовался у Карла, что стало с Софи, девушкой-цветочницей с глазами, похожими на подсолнухи, освещенные солнцем.
Ах, Софи, хорошенькая, добрая и жизнерадостная. Где еще отыщешь таких славных девочек, как венские Mäderlin[66]? Они были не такие остроумные, как парижские мидинетки, но такие же легкомысленные. Если у вас была любовная связь с одной из них, она приглашала вас к себе домой на обед и родственники вашей девушки рассчитывали, что вы будете покупать им билеты в театр. И только. Ни упреков, ни алчности. Если рождался ребенок, австрийское государство выплачивало определенную сумму на его воспитание и назначало опекуна, защищавшего его интересы. Где бы вы сыскали другую такую страну?
У Карла и Софи появился сын. Опекуном был назначен однополчанин Карла. Затем Софи родила от однополчанина дочь, опекуном которой стал Карл. «Софи чуточку пополнела, — сообщил Карл, — но если я постараюсь, то у нее появится двойня. Что за счастливая семья de la main gauche[67] у нас бы получилась!»
По правде говоря, эти венские девицы, не пудрившие свои носики, не очень-то меня прельщали. Чересчур уж они покладисты.
Тогда что ты скажешь об одной из тех Gräfinen[68], которые кружатся в вальсе так же плавно, как несет свои воды голубой Дунай, и которые в своих белых бальных платьях, с косами, уложенными вокруг головы, похожи на бабочек? Они чинны, когда на них смотрит мама, но проказливы и отчаянны, если тебе удастся встретиться с ними tét a tete[69].
Мы пообедали в жокейском клубе. В этом уютном помещении, залитом весенним солнцем, чьи лучи проникали сквозь кружевные гардины, я убедился, что в Alt Wien[70] абсолютно ничего не изменилось. За одним столом группа важных господ обсуждала проблемы передачи недвижимого имущества, продолжая играть в карты. После того как император осудил азартные игры во дворце, в котором располагался клуб, на смену экартэ пришло баккара, но ставки выросли многократно. Такой-то или такой-то проиграл миллион крон. У нас за столом шла беседа о скачках, охоте и женщинах.
После второй бутылки Gumpoldskirchner[71] моего романтического настроения, навеянного вальсами Штрауса, как не бывало. Белое вино наводит на меня уныние. Мне стало трудно мириться с дремучим эгоизмом венцев, их любопытством, граничащим чуть ли не со снисходительностью ко всем иностранцам. Налился кровью шрам, шедший от уголка рта к подбородку.
Этот украшающий внешность мужчины шрам часто принимали за след от сабельного удара, нанесенного мне во время дуэли неуклюжим противником. На самом же деле я получил его, когда пытался показать матери свою ловкость. Я скакал на своем шустром деревянном коньке, который сбросил меня, и я ударился об угол. Мне тогда было пять лет. Мама одарила меня одной из своих редких улыбок, ради которой я охотно сломал бы себе и шею. Увидев обнажившиеся зубы и десны, она вскрикнула. В ожидании доктора она держала меня на руках, и по ее шелковому платью лилась кровь. После того как доктор ушел, я вытащил нитки и, хныча и икая от боли, снова забрался к ней на колени. На сей раз меня до возвращения доктора заперли одного. До сих пор помню мучительные минуты ожидания и испытываю боль, словно мне опять наложили на рану швы.