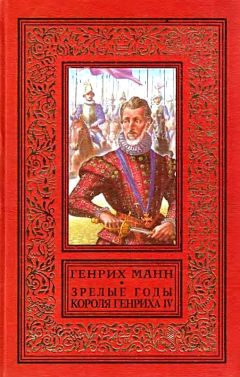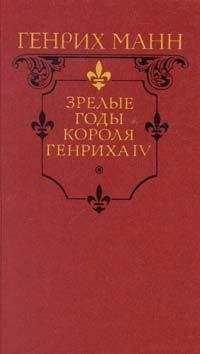Валерий Есенков - Казнь. Генрих VIII
Лейтенант отвернулся и угрюмо молчал.
Слышал тинистый запах шелковистой воды, видел идущие невысокие берега и бездумно следил за сильными и мерными взмахами вёсел.
Ни беспокойства, ни страха не было. Он приготовил себя, только внутренне весь подобрался.
Спокойно вышел на берег, ухватившись за руку, поданную лейтенантом. Спокойно вошёл под своды Вестминстера, куда прежде входил много раз без конвоя.
Оставив его в первом зале, лейтенант отправился доложить о прибытии.
Солдаты, молчаливые, равнодушные ко всему, загородили копьями выход.
Под высоким каменным куполом воздух был такой же знобкий и затхлый, как и в заточении. Минут через пять задрожали колени, и Мор догадался, что заметно ослаб.
Это было некстати.
Сжав кулаки, то заклиная, то проклиная себя, старался держаться как можно прямей. Не хотел, чтобы ему сделалось стыдно, если невольную немощь старого тела, надолго запертого без воздуха и движенья в каменной тесноте, примут за позорную немощь как будто угасшего духа.
Нет, дух не угас, но голова сама собой клонилась на грудь, и колени подгибались.
Старый привратник взял его под руку и подвёл к широкой деревянной скамье, беззубо шепча:
— Сядьте-ка, мастер, вам ещё долго нынче стоять.
Сел покорно, в ответ благодарно пожав сморщенную жёсткую руку.
Старик почтительно остался стоять, ещё крепкий, сухой, с выправкой бывшего воина, с опущенными вдоль тела руками в застарелых мозолях, заметных особенно там, где пальцы тёрлись о тетиву, с ввалившимся ртом и живыми глазами.
Посидев немного с опущенной головой, упрямо повторяя себе, что должен быть спокоен и твёрд, почувствовал себя лучше, уверенней и бодрей. Голова перестала томно кружиться, полегчавшее тело не обвисало больше к земле.
Поднял голову и негромко сказал:
— Спасибо тебе.
Старик ответил бесстрастно:
— Не стоит благодарности, мастер.
Ему понравилось это бесстрастие опытной старости. Философ угадывал в нём и холодное равнодушие к жизни, подходившей к концу, и какую-то редкую силу души, которой так в этот час не доставало ему.
Тяжело передвинувшись, прислонившись к стене, внимательно оглядел старика.
Тёмное лицо в глубоких и строгих морщинах. Низкий лоб был когда-то рассечён наискось в битве, но это случилось давно, и след удара мечом или боевым топором слабо мерцал, тонкий, прямой, как стрела.
Этот бледный мерцающий след и тяжёлые руки в застарелых мозолях от лука и стрел были почему-то знакомы.
Видел ли их мимоходом, когда что ни день являлся в Вестминстер? Или встречал их где-то раньше, эти мозоли и шрам? И кому они принадлежали тогда, если не этому молчаливому старику?
Отвечать на эти вопросы было некогда. Он внутренне весь торопился, ожидая, как распахнётся высокая дубовая дверь, как введут его, предварительно приказав держать слабые руки позади, как посреди огромного зала оставят стоять одного.
Кто его станет судить?
От этих торопившихся мыслей, набегавших одна на другую, разрасталось волнение, решительно неуместное здесь.
Гнал эти мысли ещё торопливее прочь, чтобы не растерять хладнокровие до суда, и было приятно, было необходимо глядеть на бесстрастное лицо привратника.
Морщины и шрам придавали этому человеку завидное мужество, и Мор невольно подумал о том, что, очутись на месте его, старик был бы так же спокоен и прост, каким оставался всегда и во всём.
В его душе шевельнулась горькая зависть.
Однако взгляд бывшего солдата показался ему слишком печальным, словно на самом дне неподвижных выцветших глаз таилось неизбывное одиночество старости или что-то ещё, о чём догадаться не мог.
Ощутил, что вдвоём им было бы хорошо: они могли бы подолгу молчать или неторопливо вспоминать о былом, как подобает людям старым или несчастным.
Лучше, разумеется, вспоминать и говорить не спеша.
Но уже ни на то, ни на другое не было времени, и торопливо сказал, продолжая сидеть неподвижно, с трудом шевеля сухими губами, давая понять, что в самом деле от всей души благодарен ему, благодарен не за одно позволение сесть перед трудной дорогой, но ещё за что-то иное, важное очень, о чём некогда говорить, но что само собой должно быть понятно:
— Ты можешь пострадать из-за меня. Я этого не хочу.
Твёрдо держась на расставленных крепких ногах, привратник ответил с тем же бесстрастием:
— Не убьют.
Вновь позавидовал этому хладнокровию, однако стало досадно, что тот не понял его.
Да, разумеется, не убьют, грех не так уж велик.
Стало быть, нужно было понятней выразить благодарность, даже зависть и восхищение силой жизни в старых костях, но он торопился и возразил:
— Тебя выгонят вон.
Старик произнёс, не дрогнув холодным лицом:
— Всё одно. Я не боюсь даже смерти.
Мор было собрался напомнить об ужасах нищеты, о бездомных скитаниях, представлявшихся ему много хуже мгновенной, освобождающей смерти, о законах против бродяг, да успел вдруг понять, что этого не надо говорить человеку, который действительно ничего не боялся, устав жить или что-то о жизни поняв, что ещё оставалось не доступно ему.
Заторопился найти какие-то другие слова, но уже ничего не успел.
Лейтенант строго выступил из высоких дверей, оглядел прихожую быстрым растерянным взглядом, увидел его, круто шагнул и резко сказал:
— Встать!
Когда поднялся и спокойно встал, лейтенант несколько сдержанней и тише прибавил:
— Пора.
Он знал весь порядок судебного заседания и сам пошёл, куда надо, стараясь глубоко и редко дышать, чтобы слабость вновь не одолела.
За ним следовал лейтенант, воинственно сжимая ладонью рукоять шпаги.
В большом зале, на возвышении, за чёрным длинным столом, молча высились те, кого своей волей назначил король.
Скрывая нетерпеливую жадность узнать, что готовят ему, исподволь оглядел их стремительным взглядом, но голова всё-таки мутно кружилась, глаза туманила слабость, издали виделись одни невнятные контуры лиц и фигур.
Сделал порывистый шаг, чтобы встать ближе, но от движения в глазах потемнело, сердце сжало колющей болью, побледнел.
Тогда глухо раздался голос канцлера Одли:
— Стул для Томаса Мора.
Обвиняемым не полагалось сидеть.
Должно быть, по этой причине лейтенант не понял или не захотел исполнить приказ и не сдвинулся с места.
Канцлер повелительно повторил:
— Стул, лейтенант!
Тот с растерянным видом оборотился к дверям, однако стражу позвать не решился, и сам, презрительно взирая стальными глазами, взял стул у дальней стены и молча со стуком поставил сзади него.
Едва держась на ногах, подумал, что случилось именно то, чего всё время боялся: может быть, они приняли истомлённого в заточении узника за обыкновенного труса, испытавшего животный страх перед ними.
От стыда и от гнева опустился неловко, на самый край, проронив едва слышно:
— Благодарю, лейтенант.
Офицер отступил, но остался стоять у него за спиной, расставив ноги, с руками на поясе.
Тем временем думал:
«Одли... новый канцлер... Этот, конечно, должен быть беспощаден... На это рассчитывал Генрих, избирая его председателем... Так-то верней...»
Теперь понял, что угрожало ему, и чувство неминуемой, близкой опасности подействовало верней, чем усилия воли. Слабость тотчас прошла. Голова прояснела. Медленно провёл рукой по седой бороде, выпрямляясь вместе с этим привычным движением.
Сел свободно и прямо и разглядел остальных.
Архиепископ Кранмер с плоским, плотно стиснутым ртом, с мрачным взглядом дальновидного, скрытного человека. Отец королевы Анны Болейн. Дядя королевы Анны Болейн. Брат королевы Анны Болейн.
С этими судьями всё было ясно.
По бокам и за ними — небольшая толпа, человек двенадцать или пятнадцать, ему некогда и незачем было считать. Лорд — хранитель печати, хранитель королевского гардероба, герцог Сэффолк. Томас Кромвель, секретарь короля.
С этими тоже понятно.
Два главных судьи королевства. Ещё судей пять или шесть, не известных ему.
Больше в этой толпе не обнаружил профессиональных юристов, знавших закон.
Не было Ропера, его зятя, который был обязан быть на суде.
Выходило, что его туманное дело король не доверил настоящим, известным законникам.
Выходило, что его не собирались судить.
Не оставалось сомнений: «Всякий обвиняемый в измене виновен!»
Формула беззаконная, однако в глазах этих бессловесных слуг короля она имеет безусловную силу закона. Её они со спокойной совестью и применят к нему.
Надежды на оправдание быть не могло: он был обречён.
Им сказали вчера или нынешним утром, перед самым началом суда, каким должен быть приговор. Новый канцлер, новый секретарь короля, отец королевы, дядя королевы и брат не имели причин возражать, без него будет спокойней хватать и присваивать всё, что можно схватить и присвоить. Они без рассуждений вынесут приговор.