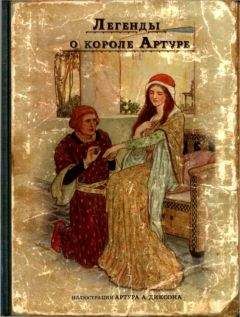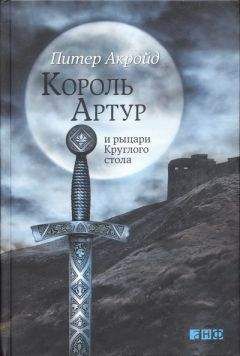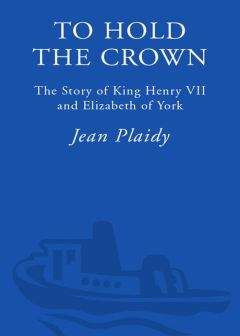Владислав Бахревский - Тишайший
«Неужто он осмелится исполнить свою угрозу?»
Усмехнулся: «он» осмелился уничтожить единственного толкового полководца.
Бесшумно вошел, стал на колени и поклонился слуга.
– Привели беглецов урусов.
Азем Салих-паша засмеялся вдруг, захлопнул ларец с драгоценностями.
– Пусть введут.
Их ввели обоих, Тимошку и Костьку.
– Салам алейкум, мошенник! Что же это ты оговорил доброго человека Лазорева? Будто бы он поступил на твою службу. Я, отпуская его в Московию, сам с ним разговаривал. Это верный своему царю слуга.
– Я не говорил, что Лазорев у меня служит, – я говорил, что взял его себе на службу.
– Как же это взял, когда он служит царю Алексею?
– Тот царь Алексей, а я царь Тимофей. Я волен брать на свою службу кого только пожелаю. Когда приду в Москву, Лазорев будет у меня боярином.
– Хорошо тебе живется, мошенник. А ты знаешь, я очень рад, что тебя поймали, не сегодня завтра меня позовут к падишаху Ибрагиму – казаки гуляют по Черному морю. Выйду ли я из сераля сам или вынесут, Аллаху известно. Ты мне нравишься, мошенник, но твоя беда в том, что мне пора позаботиться о своем спасении. Скажу тебе правду: я позвал Кузовлева, он с часу на час будет здесь, но знаю – не много от него добьюсь, а если не добьюсь, предложу тебя в обмен на гонца, которого русский посол отправит на Дон.
Тимошка улыбался, слушая визиря, но лицо у него стало белым как стена.
Появился слуга, приблизился к визирю, прошептал что-то на ухо. Азем Салих-паша весело рассмеялся.
– Посол пожаловал!
– О господин мой! – воскликнул Тимошка, падая на колени. – Я готов принять ислам. Позови муллу, я готов тотчас принять ислам.
– И я! – крикнул из-за Тимошкиной спины Костька.
Визирь печальными глазами разглядывал что-то на потолке.
– За кем правда в этой жизни? Один ради пользы государственной принимает смерть, другой ради своей жизни готов принести неисчислимые беды всему своему народу… Что ты мне на это скажешь, урус?
– Я не урус. Я швед. Я – Синенсис. Позови муллу. Я тотчас приму ислам.
– Все русские, каких я встречал, кроме тебя и твоего слуги, служат своим царям жизнью и готовы самой смертью послужить. Ты и впрямь не русский.
Визирь ударил в ладоши. Приказал слуге:
– Позовите муллу!
Нужные молитвы были прочитаны, чалма водружена. Обряд обрезания, по занятости визиря, отложили на следующий день.
– Ступай в дом, в котором ты жил до побега, – приказал визирь. – Жди решения своей судьбы, готовься к завтрашнему празднику обрезания.
7Назавтра праздника не было. Азем Салих-пашу позвали утром в сераль и удавили. Тимошка и Костька разжились греческим платьем и в тот же день бежали на Афон.
Их поймали, обрезали, заковали в цепи и посадили в замок.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
После обеда Алексей Михайлович ездил в санках иней глядеть. До того удался, что и Москве в диковинку.
Всё в кружеве: деревья, терема, бороды, лошади, собаки.
В воздухе тишина. Деревья клубами легкими, пышными, иней посверкивает звездами, огонь в них синий, до самого сердца красотой пронзает.
Воротился государь во дворец довольный, румяный. Лошади тоже от инея закучерявились.
– Попоной закрой! – сказал Алексей Михайлович кучеру и пошел себе на крыльцо.
До последней ступеньки не дошел, засмеялись за спиной. Государь оглянулся: кучер что-то потешное говорил стрельцу. Кровь так и ударила в голову.
– Я повелел попону нести! – Государь сбежал с крыльца, ткнул кулаком кучера куда-то в бороду. – Высечь! Высечь!
Поднялся к себе уже без радости. Все в нем кипело: взяли моду царя не слушать.
В сенях перед его покоями истопник Фрол, стоя на коленях, накладывал в печь березовые дрова. Увидав государя, поклонился и снова принялся за дело. Дрова были круглые.
– Отчего неколотыми топишь? – спросил государь Фрола.
– Чего их рубить? – ответил истопник. – Сгорят.
– Лень-матушка! – снова обиделся Алексей Михайлович на слуг. – Эти убери, принеси колотых.
И ушел в свою комнату, а дверь, впрочем, не затворил до конца.
Снял шубу и шапку, подкрался к двери.
Фрол стоял перед печью, раздумывая, как ему быть.
И снова неодолимая ярость накатила на Алексея Михайловича, выскочил в сени, схватил полено.
– Я сказал – убрать!
В сени на крик царя ворвалась стража.
– Убрать! – махал поленом царь на Фрола. – Плетей ему и вон! Из дворца вон!
– За что? – кричал Фрол под плетьми. – За что?
Палачи не знали, за что даны Фролу плети. И никто не знал. Да хоть и не за что. Так велено.
Словно в отместку царю, погода вдруг сразу испортилась. Ветер подул, повалил снег.
– Согрешил, – покаялся сам перед собою Алексей Михайлович. – Пойти тюремным сидельцам милостыню раздать, все на душе легче станет.
2Крутила зимушка. Снег летел снизу вверх.
– Господи! Тащиха какая! – простонал Васька Босой, прикрывая лицо варежкой.
Лицо прикрывал, а ноги и впрямь босые.
– Васенька, может, вернулся бы! – спохватился Алексей Михайлович. – Я ж тебя Богом молил обуться.
– Государь! Светик! – Васька запрыгал на снегу, вскидывая пятки чуть не к голове. – Мои ножки не жалуются. А вот попадет снег взашей – брр! – словно бы собаку, всего так и встряхивает. Нет, я не захолодаю! Ножки мои по снегу-то заскучали уже. Отгадай, государюшко, загадку: «Наш порхан по всем торгам порхал, кафтан без пол, сапоги без носков».
– Больно легкие загадки государю загадываешь! – оглянулся шедший впереди кравчий государя Семен Лукьянович Стрешнев.
Стрешневы опять пошли в гору. Василий Иванович, привезший из Варшавы подтверждение мирного договора и признание титулов московского царя, был зван государем отобедать на Верх, награжден землями.
Вот и теперь на тайное государево дело приглашен не кто-нибудь – Стрешнев: Алексей Михайлович шел раздать милостыню тюремным сидельцам.
В московском тюремном дворе было восемь изб: опальная, барышкина, заводная, холопья, сибирка, разбойная, татарка и женская. Каждая изба за высоким тыном, в каждой свои порядки.
Были и другие тюрьмы: каменные, в монастырях и крепостных башнях, земляные, при Разбойном, Земском, Стрелецком приказах, при Костромской Чети. Была особая бражная тюрьма. Те, что попадали сюда по второму разу, сидели подолгу и обязательно получали кнута.
– В какую, государь, пойдем? – спросил Семен Лукьянович.
– Так чего ж в какую? – удивился Васька Босой. – Сегодня святая Катерина. В женскую пойдем.
Возле тына женской тюрьмы не было ни души. Стрешнев постучался в дверь притюремка. В ответ по-кошачьи всплакнула вьюга. Снег уже летел и снизу вверх и сверху вниз, да с каждым мгновением все резвей. И вдруг небо обвалилось – белая стена встала между землей и небом.
Семен Лукьянович в сердцах заколотил в дверь посошком. И за дверьми что-то наконец заворочалось, зыкнул дурной спросонья голос задвижки, и засовы засипели, заскрежетали, да с такой поспешностью, что Семен Лукьянович отступил от дверей, опасливо прикрывая царя: этак со сна, осердясь, саданут по башке…
– Какого лешего? – Дверь приоткрылась, и мимо ойкнувшего Семена Лукьяновича просвистело здоровенное полено.
– Государь-царь, державный свет! – задохнулся от гнева и ужаса Семен Лукьянович: вон как тайно-то ходить! Пошли бы со стрельцами, а то одни.
Дверь заскрипела, распахиваясь шире, и в черном проеме показался свет и огромное, на полдвери, лицо.
– Батюшка государь! Ахти мне, бабе глупой! А снег-то какой!
В притюремнике горела печь. Стряхивая снег с одежды и с обуви, все трое вошли в башенку. Тюремная баба смиренно опустилась на колени.
– Смилуйся, государь-батюшка! Одна на карауле, стрельцы по домам, видно, разбрелись.
Баба была огромная – плечами, животом, лицом.
– Четвертовать тебя мало! – тоненько, как жеребенок, закричал Семен Лукьянович.
– Виновата! – простонала сторожиха. – Ведь лезут, как мухи на мед! Из начальства иной раз лезут. Сиделки-то у нас… всякие.
Алексей Михайлович вспыхнул и, чтоб не заметили его краски, сильно потер ладонями щеки словно бы от мороза.
– Не шуми, Семен Лукьянович, – попросил кравчего. – Она ведь не знала, что мы идем с милостыней.
– Вестимо, не знала! – возрадовалась баба.
– Я милостыню пришел раздать, – объяснил тюремщице государь. – Сегодня день святых мучениц Екатерины, Василисы и преподобной Мастридии-девицы.
– Отец наш родной, о всех помнишь! Пошли Господи тебе, царь-государь, жену хорошую, деток здоровеньких.
– Болтлива ты больно. Показывай сиделок! – стукнул посошком об пол Семен Лукьянович.
– Дверь-то запру! – сказала баба, вздымаясь с колен и запирая задвижки на двери. – Сиделок-то будить?
– Не надо, – переходя на шепот, сказал Алексей Михайлович. – И смотри не говори никому, что я приходил.
– Да это я знаю. Милостыня Господу угодней, когда втайне подана.