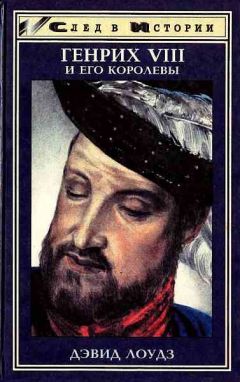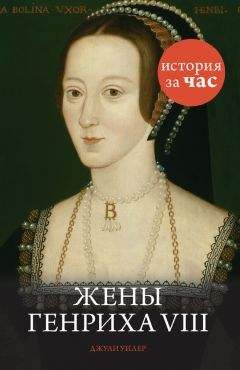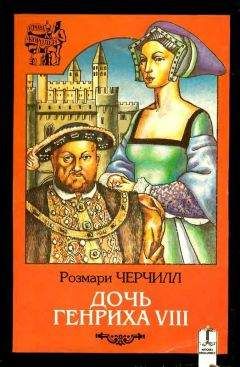Генрик Сенкевич - Повести и рассказы
— Выпьем-ка еще по одной,— сказал Бурак,
— Дай бог счастливо!
— Спасибо на добром слове!
— Ну, за твое здоровье!
Выпили опять, а так как пили они ром, то Репа, осушав свой стакан, стукнул им по столу и сказал;
— Эх! Что добро, то добро!
— Еще, что ли? — спросил Бурак,
— Наливай!
Репа уже побагровел, а Бурак все продолжал ему подливать,
— Вот ты,— наконец сказал он Рене,— ведь одной рукой закинешь куль гороха на спину, а на войну идти побоишься,
— Я побоюсь? Нет, драться так драться.
— Иной и мал, да удал,— сказал Гомула,— а другой и велик и здоров, да трус.
— Врешь! — воскликнул Репа. — Я не трус!
— Кто тебя знает? — продолжал Гомула,
— А вот двинул бы я тебя этим кулаком по спине,— ответил Репа, показывая кулак с добрый каравай,— рассыпался бы ты, как старая бочка,
— Ну, это как сказать,
— Давай попробуем!
— Будет вам,— вмешался войт.— Никак, вы драться хотите? Лучше выпьем.
Выпили еще, но Бурак и Гомула только пригубили, а Рзпа хватил залпом целый стакан рому, так что у него глаза чуть на лоб не выскочили.
— Поцелуйтесь теперь,— сказал войт.
Репа бросился обнимать Гомулу и заплакал, а это означало, что он изрядно подвыпил, затем стал сетовать па свою горькую долю, вспоминая пегого теленка, который две недели назад околел ночью в хлеву.
— Ох, ведь какого теленка господь бог отнял у меня! — жалобно причитал он.
— Не горюй,— сказал Бурак. — Ты послушай лучше, что я тебе скажу. В канцелярию пришла бумага, будто господский лес отойдет крестьянам.
— И правильно,— ответил Репа. — Лес-то не бария сажал.
Замолчав, он опять принялся причитать:
— Ох! Вот теленок был так теленок! Как подойдет, бывало, к корове да как даст ей башкою в брюхо, та и отлетит к самой балке.
— Писарь говорил...
— Что мне ваш писарь! — сердито прервал его Репа.— Плевать мне на вашего писаря!
— Не ругайся! Лучше выпьем!
Выпили опять. Репа как будто успокоился и смирно сел на скамью, как вдруг дверь отворилась, и на пороге показались зеленая фуражка, вздернутый нос н козлиная бородка писаря.
Репа сорвал с головы шапку, съехавшую на затылок, бросил ее на пол и, встав, пробормотал:
— Слава Иисусу!
— Здесь войт? — спросил писарь.
— Здесь,— отвечали три голоса.
Писарь подошел к столу. В ту же минуту подлетел к нему Шмуль с рюмкой рому. Золзикевич понюхал, поморщился и уселся за стол.
С минуту царило молчание. Наконец Гомула заговорил:
— Пан писарь!
— Что тебе?
— А правда это, что говорят насчет леса?
— Правда. Только прошение надо вам подписать всем миром.
— Ну, уж я-то не стану подписывать,— заявил Репа, не любивший, как и все крестьяне, подписывать свою фамилию.
— Тебя никто и не просит. Не подпишешь, так ничего и не получишь. Это твоя воля.
Репа чесал затылок, а писарь, обращаясь к войту и гласному, стал разъяснять официальным тоном:
— Насчет леса — это правда, только каждый обязан огородить свой участок, чтобы не было споров.
— Пожалуй, забор будет дороже стоить, чем лес,— вмешался Репа.
Однако писарь не обращал на него внимания.
— Стоимость заборов,— продолжал он, обращаясь к войту и гласному,— оплачивает казна. Вы еще на этом заработаете, потому что на душу приходится по пятидесяти рублей.
У Репы заблестели глаза.
— Ну, раз так, то и я подпишу. А деньги-то где?
— У меня,— ответил писарь. — А вот и документ.
С этими словами писарь достал вчетверо сложенный лист бумаги и что-то прочитал,— что именно, мужики, правда не разобрали, но были весьма довольны... Если бы Репа не был так пьян, он бы, наверное, заметил, как войт подмигивал гласному.
Затем — о чудо! — писарь достал деньги и сказал:
— Ну, кто первый?
Войт и гласный подписали, но когда Репа взялся за перо, Золзикевич отодвинул документ и спросил:
— Да ты, может, не хочешь? Тебя ведь никто не принуждает.
— Как это не хочу?
Писарь кликнул Шмуля.
Тот мигом появился в дверях:
— Что пану писарю угодно?
— Будь п ты свидетелем, что все тут делается без принуждения.
А потом снова спрашивает Репу:
— Да ты, может, не хочешь?
Но Репа уже подписал, причем посадил здоровенную кляксу, потом взял у писаря деньги, целых пятьдесят рублей, спрятал их за пазуху п крикнул:
— А ну-ка, давай еще рому!
Шмуль принес, все выпили. Отдохнули и еще выпили. Потом Репа сложил руки на коленях и задремал.
Несколько минут он так сидел, покачиваясь из стороны в сторону, наконец свалился со скамьи и, пробормотав: «Господи, помилуй меня, грешного!», уснул.
Репиха за ним не пришла, так как под пьяную руку ей не раз от него попадало. На другой день он просил прощения и целовал у нее руки. В трезвом виде он дурного слова ей не говорил, а от пьяного ей частенько доставалось.
Так Репа и проспал в корчме всю ночь. Проснулся он с восходом солнца и глаза вылупил: видит, что лежит не в своей избе, а в корчме и не в задней каморке, где они сидели вчера, а в общей, где была стойка.
— Во имя отца, и сына, и святого духа!
Он еще раз осмотрелся кругом. Солнце уже взошло и сквозь порозовевшие стекла заглядывало за стойку. У окна стоял Шмуль в молитвенном облачении и, раскачиваясь из стороны в сторону, громко молился.
— Шмуль, собачий сын! — крикнул Репа.
Но Шмуль будто и не слышит и продолжает молиться.
Тогда Репа стал себя ощупывать, как делает всякий мужик, проспавший всю ночь в корчме. Нащупав деньги, закричал:
— Иисусе, Мария! А это что?
Между тем Шмуль, кончив молитву, спокойно, с серьезным лицом и не спеша, подошел к нему.
— Шмуль, что это за деньги?
— А ты, дурак, и не знаешь? Да ты же вчера сговорился с войтом идти за его сына в солдаты, и деньги взял, и контракт подписал.
Тут только мужик побелел как полотно, сорвал с головы шапку, повалился наземь и заревел, да так, что стекла задрожали.
— Ну, пошел вон, ты, солдат! — флегматично сказал Шмуль.
Спустя полчаса Репа подходил к своей избе. Марыся уже стряпала обед; услышав, как скрипнули ворота, она бросила все и, сердитая, выбежала ему навстречу.
— Ах ты, пьяница! — начала она. Но, взглянув на него, сама испугалась: на нем лица не было. — Что с тобой?
Репа вошел в избу, но не мог вымолвить пи слова: сел на лавку и низко опустил голову. Однако жена до тех пор его расспрашивала, пока не выпытала всего.
— Продали меня! — простонал он наконец.
Тут уж и она заголосила, он за ней, а ребенок, испугавшись, тоже начал орать что было мочи; Кручек завыл так жалобно, что из соседних изб выскочили бабы с ложками в руках и стали спрашивать друг друга:
— Да что там случилось у Репы?
— Поколотил он ее, что ли?
Между тем Репиха голосила еще громче своего мужа, потому что любила его, бедняжка, больше всего на свете.
ГЛАВА V,
в которой мы знакомимся с законодательными органами
Бараньей Головы и главными их представителями
На следующее утро было заседание волостного суда. Гласные съехались со всей волости, за исключением панов, то есть нескольких шляхтичей, которые тоже были гласными. Эти шляхтичи, не желая отстать от других, придерживались английской политики, а именно «принципа невмешательства», столь восхваляемого знаменитым государственным мужем Джоном Брайтом. Этот принцип не исключал, однако, влияния «интеллигенции» на судьбы волости. Если кто-нибудь из «интеллигенции» имел дело в волости, то накануне заседания приглашал к себе Золзикевича, затем в кабинете представителя интеллигенции появлялась водка, сигары, и дело улаживалось очень быстро. А затем следовал обед, к которому очень радушно приглашали пана Золзикевича со словами: «А ну, садитесь, пап Золзикевич, садитесь!»
Пан Золзикевич не отказывался, а на другой день небрежно говорил войту: «Вчера я обедал у Медзишевских, Скорабевеких или Осцешинских. Гм! У них дочь невеста: я понимаю, что это значит!» За обедом Золзикевич старался соблюдать все правила хорошего тона: когда подавали какие-нибудь замысловатые кушанья, подмечал, как их едят другие, а главное, не показывал виду, что такое приглашение делает ему особенную честь.
Вообще он был человек в высшей степени тактичный, который везде умел себя держать; в необходимых случаях он не только не робел, но охотно вмешивался в разговор, поминутно вспоминая то «этого почтенного комиссара», то «этого милейшего начальника», с которым на днях играл по копейке в преферанс. Словом, он старался показать, что находится в дружеских отношениях со всеми властями Ословицкого уезда. Правда, иногда он замечал, что дамы, слушая его рассказы, как-то странно поглядывали в тарелки, но думал, что это в моде. Удивляло его и то, что тотчас же после обеда помещик, не дожидаясь, когда он станет прощаться, хлопал его по плечу, говоря: «Ну, прощайте, пан Золзикевич!» — однако полагал, что и это принято в высшем обществе, К тому же, когда хозяин пожимал ему на прощанье руку, в ней всегда что-то шуршало; тогда, оцарапав ладонь хозяину, он сгибал пальцы, перекладывал в свой карман «что-то» и неизменно прибавлял: «Пане! Между нами это уж совсем лишнее! Что же касается вашего дела, то будьте покойны».