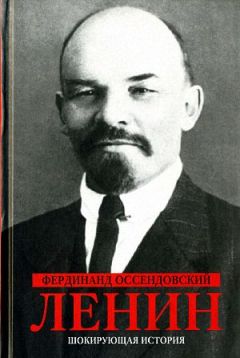Фердинанд Оссендовский - Ленин
— Темный, глупый, обманутый церковью скот! — сказал Ленин и, обращаясь к Троцкому, добавил: — Вы слышали, с какой ненавистью звучал голос этого старца, когда он говорил о мести? Это был зов инстинкта! Его использование приведет нас к победе!
— А если все инстинкты темного, еще дикого народа вырвутся наружу? — спросил стоявший рядом Зиновьев.
К этому разговору прислушивался высокий, худой человек с впавшей грудью. Его лицо постоянно сжималось и вздрагивало. Холодные, отсутствующие глаза его оставались открытыми, неподвижными. Он подошел и с бледной улыбкой на лице обронил сквозь стиснутые зубы:
— С этим можно справиться! Задушить, запугать террором, какого мир еще не видел, террором, применяемым во имя идей, стоящих выше, чем влечение инстинкта… Только надо придумать такие идеи, вбросить их, чтобы они лопнули в толпе, как адская машина, с грохотом, огнем, кровью.
Ленин поднял на него изучающий, пронзительный, подозрительный взгляд. Он никогда не встречал этого человека.
Он вопросительно взглянул на Троцкого.
Тот наклонился и сказал:
— Товарищ Дзержинский… Вы его не знаете, Владимир Ильич, хотя это наш старый боевой друг. Он оказал нам большие услуги на фронте во время пропаганды в армии. Я считаю товарища Дзержинского, наряду с товарищами Девалтовским и Крыленко, самым способным и энергичным деятелем нашей партии.
Ленин протянул Дзержинскому руку.
— Приветствую вас, товарищ! Рад слышать, что… Вы поляк? Я ценю поляков, потому что это естественный исторический, революционный элемент…
— Да, я — поляк, — прошипел Дзержинский, — поляк с душой, полной ненависти и жажды мести.
— Кому? — спросили, внезапно обеспокоившись, Ленин и Троцкий.
— России… — ответил Дзержинский, не задумываясь.
— России?
— Да! Царской России, которая бросила семена унижения среди польского народа. Магнатов сумела привязать к трону, а простой люд принудила к самостоятельному, в целях самозащиты, наложению кандалов, рабскому, слепому обожанию своей земли и традиций.
— Товарищ Дзержинский исповедует национализм и патриотизм?! — искривив презрительно губы, спросил Ленин.
— Нет! — покачал головой Дзержинский. — Просто я хочу видеть поляков в первых рядах пролетарской армии; но, товарищ, пока это невозможно, так как они до фанатизма любят свою родину!
— Мы найдем на них управу! — успокоил его Троцкий.
Лицо Дзержинского ужасно задергалось. Он даже должен был прикрыть его обеими руками. Его глаза раскрылись еще шире, судорога искривила бледные, тонкие губы.
— Товарищ, планируете ли вы в сфере вашей деятельности учитывать Польшу? — спросил поляк.
— Теперь нас интересует Россия, — уклончиво ответил Ленин.
— Теперь… а потом? — прозвучал новый вопрос, и еще более сильная судорога пробежала по лицу Дзержинского.
Он смотрел на стоявших перед ним товарищей застывшим, неподвижным, почти одержимым, но опасным взглядом.
— Польша войдет в план мировой пролетарской революции, — ответил Троцкий, потому что Ленин, сохраняя молчание, внимательно присматривался к поляку.
— Мне кажется, что я понимаю вас, — буркнул вскоре Ленин и сделал шаг в сторону Дзержинского. — Я рад был с вами познакомиться… Мы отдадим в ваши руки поиск врагов пролетариата и революции.
Внезапно Дзержинский выпрямился и поднял высоко голову. Казалось, что он хотел призвать небо в свидетели своих слов.
Тщательно разделяя слова и слоги, он произнес короткое предложение:
— Я утоплю их в крови…
— Этого потребует от вас классовая революция… — прошептал Ленин.
— Я исполню!.. — прозвучал ответ.
В зал вбежал студент без шапки, но с винтовкой в руках:
— Железнодорожные вокзалы захвачены почти без выстрела… Сейчас идет бой за почту, Государственный банк, телефонную станцию…
Студент, переворачивая стулья и расталкивая выходивших людей, выбежал из зала.
Где-то далеко раскатывались звуки пушечных залпов. Они тяжело проносились над городом и ударяли в огромные окна, сотрясая их.
В стеклах уже замаячили первые, мутные предрассветные лучи.
Глава XVIII
Со стороны Английской набережной двигался большой автомобиль. Шофер озирался по сторонам. Его удивляло, что в 9 часов на улицах не было никакого движения — ни транспорта, ни пешеходов.
Где-то лаяли пулеметы и разрывали воздух залпы винтовок. Над домами взлетали, падали на крыши и тут же взмывали высоко в небо, описывая широкие круги над городом, стаи испуганных голубей.
Из ближайшего переулка выбежали несколько солдат и перегородили автомобилю дорогу.
— Кто едет? — спросили они угрожающе и выставили вперед штыки.
Перепуганный шофер дрожащим голосом ответил:
— Инженер Болдырев, директор табачной фабрики…
Один из солдат открыл двери машины и, заглядывая внутрь, проворчал:
— Н-ну! Выходить! Именем Военно-революционного комитета автомобиль подлежит реквизиции. Вы, гражданин, свободны. Предупреждаю, однако: идите обратно, потому что в этом районе легко поймать пулю!
— Каким правом… — начал сидящий в салоне автомобиля импозантный, с длинными седыми бакенбардами и усами мужчина.
В машину проскользнул блестящий штык и заглянуло угрюмое лицо солдата.
— Вот каким правом! — буркнул он.
— Произвол… Насилие… — говорил, выходя из машины, инженер Болдырев. — Я буду жаловаться министру…
Солдат тихо рассмеялся:
— Только, гражданин, поспешите, потому что через час мы всех министров бросим в тюрьму… Иванов! Садись за руль и передай автомобиль коменданту!
Один из солдат немедленно сел в машину и, скаля зубы, бросил недоумевавшему инженеру:
— Баста! Наелись вы, напились нашей крови, теперь наш черед! Двигай!
Болдырев, ничего не говоря, пошел к Александровскому мосту.
Его недоумение не было слишком большим.
Метания мелкого адвоката Керенского, которого революционная волна случайно вынесла на должность руководителя правительства; его предательство дела генерала Корнилова, планировавшего навести порядок в стране и удержать оборонительный фронт на западных границах; появление практически второго правительства в виде Совета рабочих и солдатских депутатов, руководимых грузинами Церетели и Чхеидзе; вызывающий тон большевистских газет, требующих передачи всей власти Совету, — все указывало на возможность начала гражданской войны. Он ожидал ее и, зная русский народ, понимал, что она будет жестокой и кровавой; однако он не думал, что момент этот наступит так быстро.
Директору казалось даже, что произошли какие-то события, откладывающие начало внутренней войны.
В Зимнем дворце проходили заседания созванного для спасения отчизны демократического совета; был объявлен съезд рабочих и солдатских депутатов; это могло перенести на более поздний срок и даже, быть может, сделать невыполнимым вооруженное выступление большевиков, действовавших под руководством прячущегося в Финляндии Ленина.
И вдруг — не только восстание, но даже признаки новой власти: реквизиция частных автомобилей и совершенно очевидное, враждебное настроение повстанцев.
— Наелись вы, напились нашей крови, теперь наш черед… — припомнил себе директор слова солдата.
Очень серьезные и тревожные признаки взволновали Болдырева.
Дело было уже не в войне.
Он понимал, что разбегающаяся, самовольно оставляющая фронт, дискутирующая над каждым приказом командира и безнаказанно издевающаяся над офицерами армия не может остановить такого сильного противника, как Германия. Он опасался только того, чтобы Россия не откололась позорным образом от союзников, не была раздавлена внешним врагом и втянута в круговорот гражданской войны, последствия которой были непредсказуемы.
Он шел, направляясь к Литейному проспекту, откуда пока не доносились никакие звуки уличных боев. Ему явственно видны были собирающиеся над страной тучи, и он пытался найти для нее возможные пути спасения и надежды.
Эти мысли заслонили неизбежный, всегда тяжелый и неприятный разговор с женой. Он знал, что так будет, потому что это повторялось все чаще и вспыльчивее.
Он осознавал, что сам давал повод для домашнего разлада, но не видел для себя оправдания, и это злило его и вызывало досаду.
Особенно его мучило убеждение, что, вопреки серьезному намерению, он ничего не мог изменить в своей жизни. Он был бессилен, беспомощен перед настроением, которое три года назад охватило его и лишило воли. Ему была понятна вся абсурдность, бесцельность, непостоянность ситуации, в которую он попал в период сильного возбуждения и нервного расстройства.
— Болезнь, безумие. Но я ничего не могу с этим поделать… — шептал он сам себе в моменты угрызений совести.