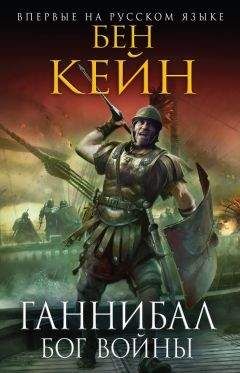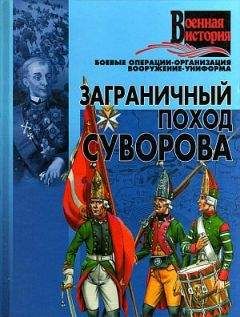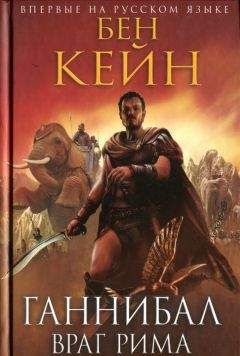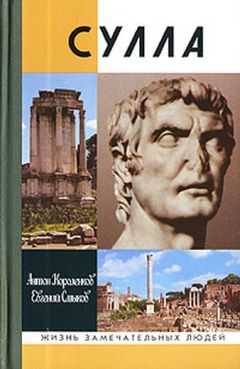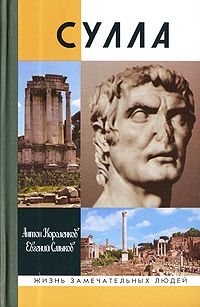Август Шеноа - Крестьянское восстание
– Хозяин едет, – пронесся по рядам шепот.
И правда, это был Тахи, а с ним слуга Петар Бошняк. Лицо старика побледнело и распухло и было все покрыто морщинами, глаза, с темными мешками, горели, губы кривились как от боли. Яна подняла голову. Заметила Петара. Покраснела, словно кто-то ей всадил раскаленный нож в сердце. И снова принялась за работу. Господин Тахи проезжал на коне по рядам работниц и доехал до Яны. Петар прищурил один глаз и показал на нее пальцем. Тахи сдвинул брови, глаза у него загорелись, и он кивнул.
– Слушайте, – сказал Тахи, – сегодня можете обедать в Суседе; знаю, что дома у вас нет хлеба. Да вы и заслужили.
В это время в Брдовце пробило двенадцать. Девушки, побросав мотыги, перекрестились.
– Ну, теперь идите в Сусед, – продолжал Тахи, – вы хорошо поработали. Но чтобы все шли, я так хочу.
У Яны сильнее забилось сердце, но она положила мотыгу на плечо и, опустив голову, пошла вслед за остальными.
После обеда стали возвращаться на работу. Медленно выходила толпа крестьянок из ворот замка. Яна тоже готовилась выйти. Но в эту минуту перед ней вырос высокий слуга и сказал:
– Девушка, погоди-ка маленько!
– Уйди с дороги, – ответила Яна, – я не люблю шуток: я спешу на работу.
– Остановись, говорят тебе! – повторил слуга и потянулся к ней, но девушка, покраснев, отскочила и, замахнувшись мотыгой, гневно крикнула:
– Прочь с дороги, не то я тебя мотыгой!
Но в ту же минуту другой слуга вырвал у нее из рук мотыгу, а Петар Бошняк, ухмыляясь, закрыл ворота замка.
– Пустите меня, злодеи! – закричала девушка, дрожа от страха.
– Не бойся меня, голубушка, – усмехнулся Петар, – тебя зовет уважаемый хозяин.
– Хозяин? Лжешь! Что ему от меня надо?
– Да у него с тобой какие-то счеты, – сказал Петар, ухмыляясь, и мигнул слугам.
В одну секунду один из них накинул на голову Яне мешок, подхватил и понес ее в замок, в покои господина Тахи. Заложив руки за спину, хозяин поджидал их в первой комнате. Глаза его горели, губы дрожали. Девушка стонала и сопротивлялась. Тахи мигнул. Грубыми руками Петар содрал с нее одежды, оставив только тонкую рубашку. Тахи сделал знак рукой. Слуги вышли. Девушка сорвала с головы мешок. Горячий румянец стыда разлился по ее лицу. Ресницы дрожали, глаза гневно сверкали, рот был открыт. Как молния, она бросилась в угол и сдвинула плечи, прикрывая руками оголенную грудь. Тяжело дыша, неподвижным взглядом смотрела она исподлобья на Тахи. А он? Он стоял не говоря ни слова, как окаменелый. Брови его ходили ходуном, ноздри раздувались, глаза горели, а на лбу билась жила. Расставив ноги, руки заложил за спину. В комнате тихо, не слышно ничего, кроме дыхания. Вдруг изверг рванулся, как рысь, и, с пылающими глазами, бросился на девушку. Яна задрожала, взвизгнула и, подняв руки, ударила безумца кулаком по лицу. А он руками сжал ноги девушки, как железными клещами, и поднял ее над головой.
– На помощь! – вопила несчастная и, запустив пальцы в его волосы, стала их рвать, скрежеща зубами и извиваясь, но он еще крепче сжимал ее ноги.
– Хо-хо! – расхохотался Тахи. – Напрасно, голубушка! – Он понес девушку в смежную комнату и затворил дверь.
Замок огласился душераздирающим криком… Услыхав его во дворе, Петар Бошняк сказал своему приятелю:
– Дрмачич все-таки умница; эта идея родилась в его башке. Теперь она, наверно, станет податливее.
Илия, вернувшись с дороги, сидит за столом. В угол забился Юрко. Опустив голову, озабоченный, он ждет Яну; в дверях стоит Ката, всматриваясь в даль: не идет ли девушка. Ночь, луна. Южный ветер гонит по небу светлые облака и со свистом сгибает ветви деревьев. «Ха! ха! ха!» – доносится сквозь завывание ветра страшный смех. За изгородью вприпрыжку бежит женщина. Босая, полунагая. Черные волосы и белая рубашка развеваются по ветру. Поднимает руки и хохочет: «Ха! ха! ха!» И бежит прямо к дому Илии.
– Господи боже мой! – вскрикнула Ката и, перекрестившись, вбежала в комнату.
– Что такое? – Илия вскочил, а Юрко поднял голову.
На крыльце послышались шаги, и в комнату вбежала полуголая и растрепанная, бледная и осунувшаяся Яна! Остановилась посреди комнаты. Тело ее вздрагивало, глаза блестели, и она ими ворочала, словно одержимая. Опустила голову, захлопала в ладоши и разразилась смехом:
– Ха, ха, ха! Я Дора Арландова. Дора! Дора! Ха! ха! ха!
И закружилась на одной ноге, и кружилась так, хлопая в ладоши, пока не грохнулась, как мертвая, на пол.
Ката вскрикнула, Илия бросился к девушке, а Юрко встал, широко открыл невидящие глаза и застонал:
– Яна! Моя Яна! Где ты?
26
В комнату госпожи Уршулы вбежала Анка Коньская. Она была необычно возбуждена.
– Мама, – сказала она поспешно, – сию минуту прибыл в Загреб служащий из Брезовицы.
– Что случилось? – спросила Уршула взволнованно, побледнев.
– Господин Амброз скончался, – ответила Анка.
– Умер! – прошептала Уршула и склонила голову на грудь.
– То, чего мы боялись уже с месяц, – свершилось; горячка его убила.
– Анка, – сказала Уршула, поднимая голову, – сошла в могилу моя самая сильная опора.
– Да, – согласилась госпожа Коньская. – Мама! Плохо вам будет, если вы не воспользуетесь этим случаем. Тахи немного смягчился, Амброз умер, возьмитесь скорее за дело в закончите его разом.
– А моя клятва? – сказала мать, вздрогнув.
– Она вас больше не связывает! И так уже через несколько месяцев минет три года, да, кроме того, даю вам честное слово: Милича нет в живых.
– Погиб? Неужели? Кто тебе сказал?
– Доверенный Аланича – Дрмачич. Обеспокоенная будущим моей сестры, я его вторично отправила в Турцию. Он побывал в Баня-Луке. Дрмачич узнал от очевидцев, что во время бунта были убиты все пленники-христиане, в том числе Милич и Могаич. Дрмачич был и на могиле Милича. Таким образом, у тебя руки развязаны.
– Где ж этот человек, где? – спросила взволнованно Уршула.
– Привести его?
– Приведи!
Коньская вышла и вскоре привела за руку Софию, а следом за ними вошел Дрмачич и остановился у двери, поглядывая исподтишка то на Уршулу, то на Софию, которая села подле матери и с беспокойством смотрела на оборванца.
– Ваша милость, – и ходатай поклонился, – соблаговолили призвать меня, недостойного грешника.
– Да, – сказала Уршула, – и ты знаешь почему?
– Знаю, – ответил Шиме, изобразив на своем лице печаль, – по поводу господина Милича.
– Милича? – воскликнула София, покраснев, и вскочила на ноги, но мать схватила ее за руку и силой посадила на стул.
– Что ты знаешь? – спросила Уршула.
– Эх, знаю-то я все, да лучше б ничего не знать, – и Дрмачич опустил голову. – Хоть я и пропащая душа, но и во мне бьется христианское сердце. Милич был в плену в Баня-Луке.
– Жив? – радостно встрепенулась София.
– Нечестивые турки, – продолжал Шиме, – так угнетают бедных христиан, что сердце кровью обливается. Милич, эта благородная душа, все это видел своими главами. И по его совету христиане сговорились, что Милич станет во главе их и что однажды ночью они нападут на злодеев. Будь проклят изменник! – И ходатай ударил ногой о пол, в то время как София, не спуская с него глаз, дрожала мелкой дрожью.
– Да, – продолжал Шиме слезливым голосом, – выдал их один товарищ, христиане попали в рабство, а Миличу…
– Что с ним? – вскочила София, протянув обе руки к Шиме.
– Отрубили голову! – ответил тот, спокойно посмотрев на девушку.
– Ой! – отчаянно вскрикнула София и без чувств Упала на руки сестры.
– Кто это тебе сказал? – строго спросила Уршула.
– Бедный монах, который похоронил останки достойного героя.
– Это правда?
– Клянусь моим спасеньем! – И ходатай поднял кверху три пальца.
– Ступай! – Уршула махнула рукой и подошла к Софии, которую Анка уложила на кровать.
– Пока хватит, мама, – шепнула Анка, – побудьте с ней, обморок пройдет. – Потом, повернувшись к ходатаю, сказала: – Пойдем со мной, я тебе дам письмо, которое ты отнесешь господину Алапичу в Буковину.
Маленький Шиме Дрмачич сидит на ивовом пне на берегу Савы и по пути в Буковину подкрепляется. Он медленно вытаскивает из кармана фляжку ракии и прикладывается два, три раза. Но из кармана вместе с фляжкой тянется также письмо и падает на землю.
– Ого! Чуть было не потерял, – пробормотал ходатай. – На, сиди тут! – И он положил письмо на шляпу, лежавшую рядом с ним на траве.
На этот раз Дрмачича мучила такая жажда, что он осушил всю фляжку и, по своему обыкновению, начал философствовать. Теперь предметом его размышлений было: почему София вскрикнула при известии о смерти Милича? Взгляд его случайно упал на письмо. Вот откуда можно было бы все узнать. Он протянул руку, но быстро ее отдернул. Задумался. Эх! Была – не была – была, – гадал он по пуговицам; потом быстро распечатал письмо и прочел следующее: