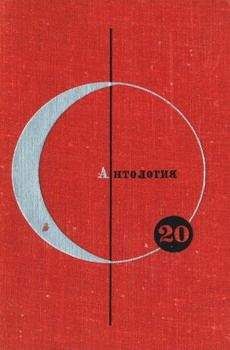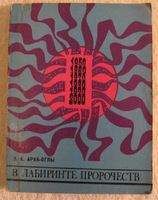Эдуард Зорин - Большое Гнездо
— Выйди, — приказал тысяцкому Мартирий.
Дверь бухнула, мужики вздрогнули и еще ниже пригнулись к половицам. Владыка отбросил кота, заговорил глухо:
— Игумена обратать не могли, а ишшо похвалялись давеча: «Немочен Ефросим, нам ли с ним не справиться?»
Отвечал сам за мужиков, издеваясь:
— Где уж нам!.. Едим за двоих, пьем за троих, а сердца у нас заячьи… Тьфу!
— Резвой он, Ефросим-то, — боясь разогнуться, робко оправдывались мужики. — А ты говорил — смиренник…
— Говорил, да что с того? — снова гневно повысил голос Мартирий. — Муха и та кусается. Знамо, не окуньков ловить отправлялись на Волхов. За то и плачу, за то и одариваю. Окуньков-то кто хошь наловит: заслуга не велика.
— Прости нас, владыко…
— Прости, — послышалось вразноголос.
— Простить-то прощу, а что с того?
— Ишшо послужим.
Спины мужиков медленно распрямлялись. Застучав коленками, подползали мужики к владыке, тянули руки:
— Прости, отче.
— Эко завыли, — брезгливо поднялся Мартирий с лавки. — Вот кликну тысяцкого. Да в батоги. Да в поруб. В землю. Навеки. Анафеме предам. Прокляну!..
Оторопели мужики, смотрели на владыку опаленными страхом сухими глазами, крестились.
Перевел дух Мартирий (сам устал от многих слов), снова сел на лавку.
— Ладно, — сказал, смиряясь. — Погожу звать тысяцкого-то. Живите…
— Дай бог тебе, владыко…
— Снял с души камень…
— Отходчивый ты…
— Доброй…
— Да мы за тебя… Да мы тебе… Женкам своим… Деткам… Свечку во святой Софии…
— Благодарствуем!
— Будя! — резким голосом оборвал их невнятное бормотанье Мартирий.
Мужики будто только и ждали окрика, смолкли все разом. Стоя на коленях, уставились на владыку, как на икону. Тщились узреть чудо. Всхлипывали, дышали прерывисто.
«С кем дружбу вожу?» — думал Мартирий, разглядывая их с презрением.
Ране-то, еще до того, как стать владыкой, жил он чисто и праведно. Поучал братию скромности и воздержанию. Уважал законы человечьи и божьи. Скоромного не едал, вин не пил, спал на жесткой лежанке, читал священное писание и умилялся подвигам Христовым. Мечтал и сам о подвиге на поприще православной веры. Готовил себя к вечной загробной жизни.
Но дьявол увертлив и многолик. Сбил его с пути истинного, и, когда пришли к нему бояре и посадник, когда стали просить владыкой в осиротевший без пастыря Новгород, не ответил отказом, не удалился гордо в свою келью. Думал так: нынче в монастыре своем навел он правильную жизнь, отчего не подвигнуться на угодное богу? Сам Христос выходил к народу, обращая его во святую веру, выходили к народу апостолы его. Что, как и над ним простерлась его десница? Что, как и ему выпала счастливая доля?… Придет он к несчастным и униженным, отверзнет им ослепшие очи, лицом обратит к сияющему свету божественной истины?..
Не прогнал бояр Мартирий, впервые тогда взалкал разрушающего душу невидимого яда. Разлучился с братией своей, уехал в Новгород, ища не спасения, но славы.
Апостольской славы жаждал он и так мыслил. А жил и дела свои творил по наущению коварного искусителя. Не по правде избран был во владыки, не по правде карал и миловал. Не по правде стоял на высоком месте в Софийском соборе, творил молитвы и исповедовал, служил обедни и всенощные.
И ненависть его к Ефросиму была ненавистью к себе самому, к своему чистому и праведному прошлому.
Так сидел Мартирий, прикрыв ладонью глаза, и думал. И мужики, стоя перед ним на коленях, недоуменно переглядывались: что случилось с владыкой? Не поразила ли его внезапная хворь?..
А заглянули бы к нему в душу — ужаснулись. Кинулись бы прочь с Владычного двора в страхе и беспамятстве.
Но не было мужикам дано столь высокого дара. Да и кому он дан? Все живем в незнании — и тем счастливы…
Счастливы были мужики, что не наказал их Мартирий, разве что заставил поползать на коленях, но на коленях мужикам ползать не привыкать: набили они себе давно уж крепкие мозоли. Перед богом — на колени, перед князем — на колени, перед владыкой — на колени, перед боярином — на колени, перед воеводой и перед тысяцким, перед сотником и тиуном, перед огнищанином и старостой — перед каждым на колени…
«Ишь как опечалили владыку», — подумали мужики, терзаясь нечистой совестью.
И сказал им Мартирий:
— Падет на вас проклятие, ежели задуманного мною не исполните…
— Исполним! — ответили растроганные мужики.
— Ефросима боле не тревожьте…
— Не потревожим, владыко, — вторили голоса.
— Сыщите случай и приведите ко мне отрока его Митяя…
— Приведем, владыко.
— Но сделайте сие тихо и незримо, аки ангелы…
— Аки ангелы… — подхватили мужики.
— Аминь, — сказал Мартирий и поднял руку для благословения. Но что-то вдруг смутило его, рука повисла в воздухе и опустилась.
Мужики, толкая друг друга, попятились к двери.
Выходя последним, Вобей успел разглядеть: Мартирий поднялся с лавки, бросился перед иконой, осеняя себя крестным знамением.
3Мирошка с утра сидел у себя в горнице, будто неживой. Все-то ему вдруг сделалось немило: и день выдался ненастный (вьюжило), и печи худо протопили (истопника боярин бил поленом), и квас принесли из погреба прокисший («Что ты, батюшка, взъярился? Квас как квас», — сказала ключница. Мирошка замахнулся на нее пустой братиной), и мясо показалось непрожаренным (раньше сам любил, чтобы с кровью).
Сидел Мирошка, пригорюнившись, глядел из оконца во двор, вздыхал глубоко и скорбно закатывал глаза.
Нерасторопные мужики сгружали с возов кули с мукой и зерном из Владимира. С вечера был у посадника купец, торговались до перхоты в горле. Задешево взял у него Мирошка хлеб, а нынче показалось, что можно было бы, заупрямься он, и еще, хоть маленько, сбить цену. Купец был верткий и скользкий, как уж, — пока судили да рядили, выведывал у посадника разные разности. Но и Ми рошка себе на уме — быстро смекнул, что к чему: нынче со Всеволодом ухо держи востро. В Новгороде обернулся человек купцом, а вернулся во Владимир — обернулся дружинником. Уж больно долго беседовал он со Словишей. О чем — не слыхать было, а только после повеселели у Словиши глаза…
Мирошка еще немного повздыхал, снял с гвоздика шубу, набросил на плечи, спустился во двор.
Заметив его на всходе, мужики забегали резвей.
«Глаз да глаз за ними нужен», — подумал боярин. Подошел к переднему возу, откинул рогожку, запустил пятерню в душистое зерно. Пересыпал пшеничку из ладони в ладонь, прикинул в руке на вес. Зерно было отборное — одно к одному.
Возница сидел на мешках, подвернув под себя ногу, улыбался и жевал хлебный мякиш.
«Тоже плут, — неприязненно определил посадник. — Недалеко от хозяина ушел. Радуется, что на чужом дворе, — вот и зубоскалит. Своему-то дал бы сейчас по загривку, а ентого не тронь».
Холодный ветер сметал с крыш мелкий снег, откидывал полы боярской шубы. Мирошка поежился, потоптался перед возами, притворно зевнул.
Сидевший на возу мужик пошевелился и открыл набитый мякишем рот с черными, проеденными гнилью зубами:
— Чтой-то невесело у вас в Новгороде. Ась?..
— Чай, не пиры приехал пировать, — буркнул Мирошка.
— Знамо, — протянул мужик. — Пришли в Новгород с товаром.
— Дело ваше торговое…
— А ишшо помолиться хочу во святой Софии. Баба моя на сносях…
— Что — баба? — не понял Мирошка. Глядя на суетившихся с мешками на спинах мужиков, он слушал возницу вполуха.
— Баба на сносях, говорю. Просила шибко: помолись, говорит, во святой Софии, чтобы сыночка нам бог послал… От дочки-то — одно озорство, а польги никакой. Сыночек как-никак в хозяйстве подмога…
Мужик говорил неторопливо и добродушно.
Мирошка поморщился, вспомнив про Гузицу. «А верно мужик сказывает, — подумал он. — Мозгами-то, как жерновом, ворочает, а всё верно». Была до недавнего времени Гузица во всяком деле ему подспорьем. А нынче, как появился в тереме Звездан, переменилась так, что и не узнать. Бывало, пальца ей в рот не клади — откусит с рукой, теперь же ходит тихая и задумчивая. Сердце Мирошки дрогнуло: свят-свят, уж не отяжелела ли?.. Стал припоминать былые сестрины повадки, еще больше расстроился, наорал на мужиков:
— Ноги, что ль, вам укоротили? Куды старшой глядит?!
Подскочил старшой. Руки шапку мнут, зализанные волосенки косицами стекают на плечи. Нижняя губа мелко подрагивает, в бороде — остинки и мучная пыль.
— Како повелишь, боярин?
— До вечера возиться будете, али как?..
— Мигом управимся!
— То-то же…
Мирошка запахнул разъехавшуюся на груди шубу, медленно поднялся на крыльцо. Гузица не выходила у него из мыслей. Эко истомилась вся: что ни день, что ни утро — всё перед зеркалом. То косу заплетает, то расплетает, то щеки румянит, то сарафан примеривает. А то еще в обычай взяла растирать бурачок с медом и мазать им лицо от веснушек. Девки только тем и заняты, что крутятся возле нее, глаза закатывают, хихикают, шушукаются. Мирошке и воды-то некому подать, не то что квасу. Вон и ключница стала дерзить — поделом пугнул ее посадник: пущай наперед остерегается.