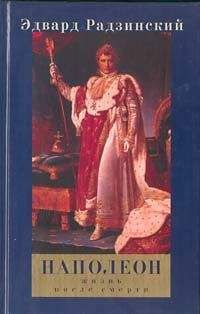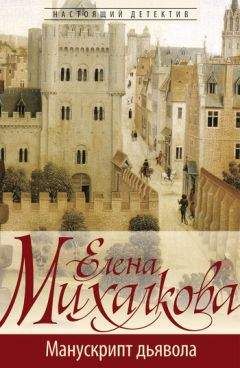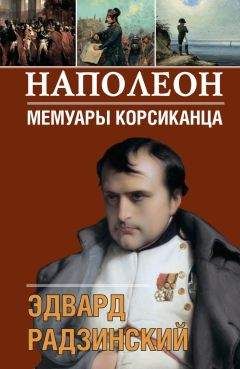Эфраим Баух - Пустыня внемлет Богу
Почему бы ему хоть немного не причаститься той спокойной радости бытия, которая разлита в растениях и животных, ведь он так доверчиво ощущает ее тайный и чистый ток?!
Почему бы не научиться терпеливости у растения, которое хранит в дремоте свое семя, не высовываясь в пекло и сушь, в ожидании своего часа расцвета?
5. Голос, трава и дождь
Вот оно, удивительное: роза Иерихона. Плод ее подобен сухому, мертво сжатому кулаку. Ничто не заставит его разжаться, только влага, но не всякий мимолетный дождь, а достаточно долгий. Лишь тогда кулак разожмется, чтобы капли выбили и разбросали семена. Кончился дождь, сжался кулак, сохраняя те семена, что не сбиты, на сотни лет.
Разве это не похоже на восстание из мертвых?
Именно по разжатым кулачкам розы Иерихона Моисей научился определять обилие дождя, предвещающее не менее обильный рост трав.
Опять — падение в сон, не соскальзывание, а падение, подобно камню с гор.
Опять кто-то рядом. На скосе глаз. С затылка. Сколько ни крутись, не увидишь. Только голос. Без голоса мир призрачен, как сборище привидений.
Существо обозначает свой приход в жизнь голосом.
Голос ли — звук падения камня, завывание ветра, блеянье овец, собачий брех, звон колокольцев?
Можно ли онеметь, забыть собственный голос, неделями не разговаривая в пустыне, что нередко случалось за эти годы? Не ловил ли себя в испуге Моисей на том, что разговаривает сам с собой?
Тьма и свет спиралью сна утягивают голоса, стремясь к уюту души, к одомашненной вечности в райском саду, к плодам и травам забвения.
Ровный мягкий шум будит Моисея: по пологам палатки бьет негромкий дождь. Выглянув наружу, видит Моисей в первом высоком свете еще находящегося за горами солнца, как золотисто вспыхивают слабо долетающие до земли капли. Пространство полно умиротворенности. Овцы разбрелись в посвежевших за ночь травах далеко к подножию гор под бдительным оком псов, не издавших ни одного звука, чтобы не разбудить Моисея.
Благодать небес низошла на растения, излилась в душу.
Как будто ничего не случилось, а кажется, жизнь изменилась полностью: не уснул, а ушел в тоскливую черноту; не проснулся, а вернулся в нечто свежее, зеленое, упрямое, раскрывшееся, подобно кулачкам розы Иерихона. Даже жесткий дрок, иудина полынь, колючий терн, багрянник расслабились и дышат жизнью.
Подозрительно беспечная легкость существования облаком окутывает Моисея, углубляющегося вслед за овцами в распадок и словно бы ведущего безмолвный диалог с каждым цветком и растением, которые так знакомы ему за долгие годы пастушества. Начисто вымыта из памяти тяжесть тревожной ночи, страх приближения к чему-то судьбоносному.
Какой странный терновый куст, пляшет сухим пламенем, беспечно думает Моисей, присмотрюсь поближе: отчего куст не сгорает.
Так дитя, влекомое любопытством, бесстрашно приближается к пожару, грозящему его испепелить.
Притупилось ли в Моисее хваленое седьмое чувство опасности после всех потрясений, случившихся с ним за долгие годы пустыни, включая и те мгновения несколько часов назад, когда висел между жизнью и смертью, чуть не захлебнувшись?
То ли куст пляшет языками огня, то ли знакомое, давно не посещавшее его огненно-ангельское, крылатое, но вовсе не обжигающее его своим вихрем, а, наоборот, как бы призывающее привычным, хотя и впервые увиденным чудом?
Солнце стоит на гребне горы.
И тут раздается голос:
— Моисей! Моисей!
Так мать осторожно, чтобы не испугать, будит заспавшееся дитя.
Так отец в бескрайней лесной глуши, потеряв надежду найти сына, продолжает выкликать его имя.
Это только кажется, что нет паузы между дважды произнесенным его именем, черная дыра невероятной тяжести обозначилась тошнотой от низа живота, поднимается заверчивающимся вихрем услышанных в жизни голосов, удушающей, лишь увеличивающей сомнение злостью на собственную самонадеянную веру в то, что способен их различать.
Кто он?
Неужели подал наконец голос тот, кто существует только и абсолютно как твой собеседник? И зависит от тебя точно так же, как ты от него, хотя ты — прах, а он — вечность?
Снизойдя к тебе, он уже этим самым поставил себя с тобой на равных?
Слабое утешение.
Откуда такая податливость твоей души этому собеседнику?
О, этот собеседник хитер, капризен, заражает бесконечной леностью, чтобы внезапно опрокинуть навзничь хватающей за горло навязчивостью. Напугал громом и молнией до того, что Моисей собрался бежать. Опять же эта проклятая сонливость. Вот и обвел вокруг пальца, низвел в дремотность трав, подобрался на уровне кустов.
Внезапно в памяти всплыл ночной диалог с Гавриэлем:
«— В пустыне этой обретается немало великих умов, для которых жизнь в деспотических империях смерти подобна. Но великий ум — не все. Требуется еще судьба и высшее бесстрашие, чтобы постичь тайну мира и не потерять рассудка.
— Но ты-то ведь знаешь ответ.
— Ну, это все на уровне игры. Вне пределов круга, из которого уже нет возврата».
Кажется, круг замкнулся?
Вот и она, сидит на кочке, жирно лоснящаяся черная птица, чистит когти, косо сверкает лакированным глазом: птица судьбы из темных лежбищ смерти.
Ощущая лунатическую легкость самоотсутствия, как бы махнув на самого себя рукой, Моисей отвечает:
— Вот я!
— Не подходи к кусту, сними обувь с ног. Место, на котором ты стоишь, свято.
И это уже слышал. Голосом Мерари, рассказывающим о нищем еврейском мудреце, который, вспомнив погонщика, огляделся и сказал: «Это место свято». «Вы из погонщиков, — продолжал Мерари, — это не профессия и даже не характер, это корень существования. А пастух, купец или аскет — лишь подвернувшиеся земные обстоятельства».
Вот если бы все происходящее с ним в этот миг растворилось миражем, как ушедший вдаль караван Мерари.
Но тут голос ударил в уши, в грудь Моисея с галлюцинирующей четкостью, наконец вернув его полностью в реальность:
— Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова.
Инстинктивно Моисей прикрывает лицо платом да еще зажмуривает веки, удивляясь наивной легкости этого действия, призванного спасти его жизнь, и внезапно всем своим сжавшимся существом и сознанием, пронзительно обоюдоостро уходящим к праотцам и будущим поколениям, ощущает абсолютную единичность вершащегося в этот миг события, которое никогда не было до и не будет после во веки веков.
Именно в этот миг три имени — Авраам, Исаак, Иаков — подобны разящему клинку — оси пространств и поколений, вобравшей в себя мгновенно все продуманное и передуманное Моисеем, приведшее еще раньше к таящемуся в молчании души знанию, что в этом трехименном корне напряженно свернута вечность, которая переживет камни пирамид и славу империй.
«…Бог отца твоего»: имени не назвал. Не потому ли, что и сын лишь однажды, весьма сомневаясь, слышал его мимолетно от Яхмеса. Ведь все остальное произнесенное может быть эхом его же, Моисея, размышлений, столь долго распиравших душу в безмолвии пустыни, требующих выкричаться в голос.
Но ведь рта не открывал.
Все готов принять — только не безумие.
Странно восприятие длящихся этих мгновений со стороны: существуешь ты, Моисей, на кончике страха, как Исаак существовал на кончике ножа Авраама.
И одна-единственная лихорадочная мысль: как спастись.
Потому и голос доходит как сквозь вату:
«…Увидел страдания народа Моего».
«…Вопль сынов Израиля дошел до Меня».
«…Иду избавить его от рук египтян».
Разве нельзя просто повернуться и уйти, ведь ноги не приросли к земле, хотя ощущение такое, что летишь в пропасть и жив, пока летишь, или как проигрываешь партию в шахматы: обратного хода нет, хотя можно смешать все фигуры. А еще точнее: втягивает в водоворот, не осталось дыхания, еще немного, и воды зальют легкие.
Поражает, что он еще жив, и поверх всех его лихорадочных размышлений слова доходят галлюцинирующе ясно, хотя, отзвучав, исчезают. И ловит себя Моисей на том, что усиленно прислушивается, внезапно поняв, как смертельно опасно упустить даже один звук.
И выходит, на случайном движении воздуха, обернувшемся голосом, зиждется основа Мира.
Еще более потрясает, что голос не о времени, не о пространстве, не о Сотворении мира, но о чем-то очень человеческом, касающемся каждого сердца: о жестокости и милосердии.
Но уж совсем уму непостижимо требование вывести целый народ из рабства в этом мире деспотических империй и карликовых царьков-диктаторов, которые только и держатся все на жестоком унижении себе подобных, считая их говорящим скотом.
— … Я пошлю тебя к фараону; выведи из Египта народ Мой.