Борис Акунин - Вдовий плат (сборник)
Здесь, на милом моем Острове, я и спасаюсь уже шестой год. Мирно мне здесь, спокойно, лепо.
Москва, премерзкий Вавилон, цветом сера. Даже Кремль, прежде белокаменный, давно стускнел. А мой Остров бел и черен. Над белым поясом стен высятся беленые стены теремов и церквей, а крыши крыты черной черепицей. В том двоецветии великий смысл: тако и на земле обитают белое Добро и черное Зло, но оба они ничтожны перед Божьей волей, высоко над всем вознесенной – как вознесены над Слободой летучие золотые купола с крестами.
Однако в ночное время мой Остров не бел и не черен, а огнен. Я медленно еду между костров и факелов, крестясь во тьму на три стороны, трем церквам: Покровской, Троицкой и Распятской. Блестит железными колпаками стража, сверкают острые бердыши, тлеют зажженные фитили. Пятьсот опричных молодцев каждую ночь стерегут мой сон. Только где он, тот сон? Прошлой ночью не смежил вежд, не буду спать и нынче. Там, на холме, под ветром, бездомно и бескрышно несколько часов поспал, и то счастье.
Еду мимо Пытошного приказа, где на колах еще дергаются и мычат давешние псковитяне, что взяты по литовскому изменному делу. А в подвешенных клетях с прошлой недели гниют мертвые Лобановы: сам вор Мишка, его жена, дети, слуги и холопы, все их гадючье племя.
Вдыхаю особенный запах Слободы, какого нигде больше нет.
От церквей тянет свечным воском и ладаном.
От костров – дымом и смолой.
От Пытошного приказа – трупным смрадом.
Град мой цветом черен и бел, с златой искрой поверху, воздухи же здесь троевонны: сладкое благокурение для чистой души, чадный огнь ради Страха Господня, мерзкий тлен для бренного тела. Помни, грешный человек, что из праха ты сотворен и в прах обратишься. Трепещи Геенны пламенной. Но не теряй и надежды на спасение, на иную блаженную жизнь – вот тебе ее ароматное дыхание.
Кто умеет понимать – понимает. Но таких мало.
Вот Антоний Женкин, посол Лизаветы Английской, в перехваченной тайной грамотке отписывал своей королеве, пошлой девице, что-де, быв в «резиденце» у «кинга Джона», сиречь у меня, в Александрове, едва не стошнился, так-де там мертвечиной провонено, и Слободой моею брезговал, а про меня, собака, написал, что я-де подобен Ваалу, питающемуся человечиной. И впал я, те враки прочтя, в гневное неистовство, и забился судорогой, и повелел английский двор разметать, слуг побить, а самого Женкина повесить на воротах вверх ногами, над навозной кучею, чтобы, издыхая долгой смертью, понюхал истинно смрадного. Но Малюта держал меня за плечи и говорил, что ссориться с Лизаветой нам нельзя, а можно придумать лучше. И придумал. Хорошо придумал.
Мне потом очевидный человек рассказывал – свой опричный дворянин, нанявшийся к англичанам в слуги, чтобы за ними доглядывать. Я слушал – хохотал до икания.
Сел Женкин трапезничать по своему английскому обычаю. И подают ему ихнее английское варево. Лезет он туда ложкой, гущу зачерпнуть – и выуживает отрезанное ухо, но за разговором не глядит, что вынул, и даже надкусывает и лишь потом, узрев, вопит в ужасе и облевывает всю скатерть. Про это я велел трижды пересказать, повторяя: «Так кто из нас, Антошка, человечину жрет – я иль ты?».
Улыбаюсь, вспомнив, и сейчас, но не злорадно, а умилительно. Бог – он все видит, и неправому за неправду всегда воздаст.
На душе возвышенно, и я бережно, будто полную до краев чашу, несу в себе это светлое чувство.
Буду молиться. Ах, как хорошо я сегодня буду молиться!
О просветлении
Иду в скарбяницу и велю себя переоблачить.
Слуги снимают с меня распашную ферязь на собольей подбивке, разматывают парчовый кушак, принимают златотканый кафтан, потом шерстяной зипун, потом шелковую рубаху. Стягивают алосафьяновые сапоги, чужие грубые порты.
Стою перед иконами наг, в одном нательном кресте. Все те одежды мирские, для моления негодные. Сказано у Иезекииля: «Да оденутся в одежды льняные, и увясла на головах их должны быть льняные, и исподняя одежда на чреслах их».
Потому для службы подают мне особое облачение, черного крашеного льна: нижние порты и рубаху, сверху рубище, на голову – куколь с черепом и костями.
Смиренным чернецом, прижимая к груди тяжелый игуменский крест, влачусь я через багровый двор, меж рядов стражи, и глаз пока не подымаю, гляжу только под ноги. Шепчу: «Грешен, Господи, паки грешен», – и так триста тридцать три раза. Повторяю покаянные словеса все время, пока не поднимусь по крутой лестнице, подолгу останавливаясь, на Распятскую звонницу.
Дюжие звонари уже раскачали било, но колокола еще не звонят. Это мое, игуменово дело. Я принимаю тугое вервие, наваливаюсь – и рождается могучий, сначала тихий гуд. С каждым толчком он делается громче, торжественней, победительней.
«Се я, Господь ваш! Зову вас к служению! Приидите и славьте меня!» – зову я братию гласом великим, зычным, слышным на много поприщ. Мне рассказывали, что посадские жители и крестьяне по деревням, заслышав из Слободы ночное колокольное глаголанье, пугаются и крестятся. Так оно и должно быть.
Устав, я передаю веревки звонарям, а сам смотрю, как к храму со всех сторон тянутся малые огоньки, будто заблудшие души. Это мои деточки, опричная братия, восстав от сна и тоже обрядившись в черные рубища, спешат на ночное моление в Покровский храм, у каждого в руке зажженная свечка.
Сколь много думано за минувшие годы об истинном государстве! Сколь много положено трудов!
Я единственный из государей, кто живет Богом и кто понимает: земное царство должно строиться по примеру Царства Небесного, где единый Господь, близ него архангелы, под ними ангелы, а еще ниже – спасенные души. И ведь явлен еще древними благодетельными отцами образец для посюсторонней жизни: монашеская обитель, где правит игумен, а ему помогают иеромонахи, где черноризная братия исполняет послушания, а монастырские крестьяне иноков кормят, дабы молились за спасение всех сущих душ.
Тако и я хотел бы устроить мою державу, и немало уже сделано, невзирая на противление злосердных и ропот скудоумных.
Моя Слобода – драгоценное семя, из которого потом произрастет могучее древо обхватом во всю Русь. Не при мне, слабом и грешном, а, может быть, при моем внуке. Тогда православный государь будет царем-пресвитером, архимандритом над всерусским монастырем. И всяк человек в том ладном общежительстве будет на своем месте – кто правит, кто помогает, кто молится и кто трудится. И все до единого спасутся. Может быть, и меня, страдного, давно уже истлевшего, наконец поймут и помянут добрым словом…
Пока же вот: есть я, Александровский игумен, и есть моя черная братия, несколько сотен иноков. На сей малости вся Русь и стоит, ею одной и держится.
Спускаюсь с колокольни вниз – опять небыстро, останавливаясь и дожидаясь нового дыхания. Когда-то был я силен и неутомим, но в трудах и в грехах порастратился. По воле Божьей в сорок в один год сделался будто дряхлый старик, но не ропщу и не жалуюсь, а принимаю телесную немощь свою со смирением.
В храм вхожу через золоченые Васильевские врата, недавно вывезенные из Новгорода, где сим чудом похвалялась их новгородская София. Но такой красе не место в обреченном городе, ибо он проклят Господом, и аз, подобно всаднику Апокалипсиса, был прислан то проклятье исполнить.
Вся братия уже собралась, ждет. Храм черен от остроконечных куколей, и все они склоняются предо мной, игуменом, а я ласково крещу, благословляю своих чад.
Начинаем с песнопения. Хор певческих дьяков – у каждого голос райского звучания – заводит гимн архангелу Михаилу, сотворенный мной в миг высокого вдохновения.
Пою и я, подняв увлажненные глаза к расписному своду. Пою о неминуемом смертном часе.
Молю ти ся, святый ангеле,
Яви ми свой светлый зрак
И весело воззри на мя окаянного
И тихо напои мене смертною чашею…
Пою о прощении за все мои тяжкие грехи:
Всех ангел престрашен еси, святый ангеле,
Не устраши мою душу убогую,
Наполненну злосмрадия,
И очисти, и престави ю престолу Божию непорочну…
Пою об одолении и покарании лютых врагов моих – левокрестящегося богохульника Жигмонта польского, ненавистника Ягана свейского, безбожного Девлета крымского, а паче всего лживых и лукавых рабов моих, кто льнет и ласкается, а сам таит в сердце измену и в рукаве нож.
Господи Исусе Христос,
Излей миро, яко благ и человеколюбец,
На раба твоего Ивана,
И запрети всем врагам, борющимся со мною.
Сотвори их яко овец,
И сокруши их яко прах пред лицом ветра…
Еще прошу слезно у Господа поддержать меня, слабого, и послать мне некий явный знак, что я Ему люб, что не покинут в одиночестве. Давно уже не было никакого видимого, несомненного знамения Божьей милости, не было шепотного крика, не было наставления – как мне сиротствующему жить.
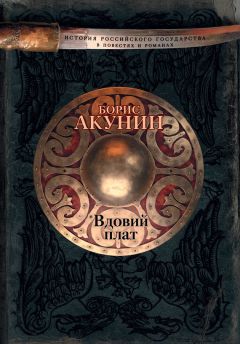

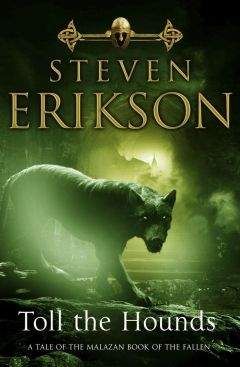

![Иоанна Хмелевская - Большой кусок мира [Большой кусок света]](/uploads/posts/books/227132/227132.jpg)