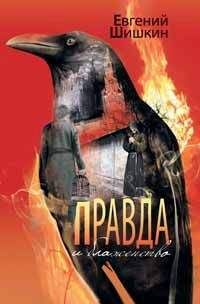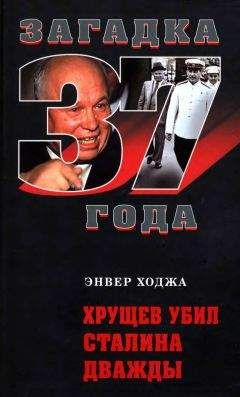Рожденные на улице Мопра - Шишкин Евгений Васильевич
Майор Сенников обошел ее, словно осмотрел дерево, которое намеревался срубить. Тело Катарины было белое, пышное, но не переспелое, без одряблостей и жировых наплывов.
— Может, ребятам ее отдать на часок, на перевоспитанье? — усмешливо спросил старшина Катков.
— Отставить, старшина! — пресек майор Сенников. — Она будет у меня говорить. — Он обернулся к пленнице, спокойно сказал на ее языке. — Ты убила русского солдата. Тебе придется говорить…
Катарина Круст насторожилась, оскорбления запеклись на ее губах.
— Нет, — упрямо шепнула она, угадывая, что русский майор вовсе не собирается тешиться ее телом.
— Старшина, принеси керосину!
Повидавший виды старшина Катков по первости не хотел исполнить приказ, не перегибает ли комполка палку? Но майор Сенников в издевательствах замечен не был. Скоро старшина Катков держал в руках темнозеленую бутылку, от которой резко пахло горючим.
— Облить ее одежду… Сжечь!
Старшина Катков со смаком полил лётный комбинезон и особо — нижнее белье Катарины, швырнул зажженную спичку. Ворох одежды жарко, свирепо вспыхнул. У Катарины дрожал подбородок, тряслись плечи, казалось, она очень замерзла. Но холод этот исходил от костра. Слезы копились в ее глазах. Видя, как горит ее одежда, — даже не форма обер-лейтенанта, а просто собственная одежда, — ей уже не доставало сил клеймить окруживших ее варваров.
— Нет никакого офицера великой Германии! — сказал майор Сенников, указывая Катарине на пепелище. — Есть немецкая баба. Дура, которая наслушалась Гитлера. Ввязалась в войну и убила русского солдата!
И все же, скорее всего, не приговорные слова майора Сенникова, а куцее пепелище от одежды сломило Катарину Круст. Она разрыдалась. Видать, только теперь она осознала ужас своего положения; человек без одежды и так слишком уязвим, она же с утратой одежды еще теряла всякую надежду на спасение, на достоинство, на собственную волю. Даже на войне стыд сильнее храбрости… Она захлебывалась в слезах как обиженный несчастный ребенок. Нагая, остриженная, лишенная одежды, родины, офицерских привилегий Катарина Круст, со школьной скамьи беззаветно любившая небо и авиацию, как ничтожное зернышко, угодила в гигантскую молотильню мужской беспощадной войны.
…Федор Федорович прошелся по комнате, взбодрил Феликса:
— К бою!
Феликс коряво, но полностью выкрикнул:
— Ар-ртилер-рия!
Федор Федорович усмехнулся, приоткрыл дверцу шкафа. Здесь висел парадный мундир с наградами: боевые ордена и медали; никаких побрякушек, которые раздавали к юбилеям. В этом мундире он чеканил шаг по брусчатке Красной площади на Параде Победы. Тогда ему казалось, война кончена, войны больше не будет, она не нужна — всем тогда так казалось. Многие потом поняли, что это временное заблуждение. Зов войны, допинг войны сильнее страха, сильнее обывательского счастья. Тогда, летом сорок пятого, казалось, что любовь заменит войну. А нынче жестокий вопрос: на что потрачена жизнь? Лучшие мужиковы годы? На безответную любовь? На удовлетворение мужской плоти? На гнев и ревность к генералу, чье имя нынче в траурной окантовке? На бабьи капризы? На преодоление самого себя? Он ведь даже от учебы в академии отказался. Из-за Маргариты! Вот она — слепая страсть и нюни! А где победы? Где поверженный враг? Где фанфары победителю? Где уважение и почет? Где власть полководца?
— По-олк! — гортанно, сквозь зубы призывал Федор Федорович.
— Смир-рна! — откликался понятливый ворон Феликс.
— Война!
— Ур-ра! Ур-ра! Ур-ра! — Феликс пошел куролесить в клетке.
Минул колючий январь. Снегообильный февраль пристроился в конец зимы.
Февральским метельным вечером в пивную «Мутный глаз» зашла Маргарита. Ее появление всколыхнуло обитателей: она сроду сюда не ступала. Всякому малому мальцу в округе ведомо, что ее муж Полковник квартирует на два дома, что Серафима-продавщица ему «мамоха»…
Не глядя на витрину, Маргарита встала в хвост короткой мужиковой очереди. Сердце Серафимы — не на месте: бабья натура привередлива, взбалмошна, — вдруг Маргарита появилась чинить разборки. Не пиво же пить!
Всё на деле оказалось проще. Маргарита ходила в магазин — прикупить на вечер шкалик. Но магазинной водки не было. Водки не было во всем Вятске. С водкой случались перебои. Недаром Карлик поносил весь ЦК КПСС, члены которого «уж третью неделю, рожи колбасные, травят честной народ алжирским бухлом». В магазины Вятска и впрямь завезли в темных «бомбах» с красно-желтыми этикетками алжирское сухое вино, которое нутро выворачивало у русского водочного питока.
Публика в закусочной обыкновенная: местные мужики, завсегдатаи. Остроязыкий забавник Карлик, возле него шишкастая голова Фитиля, Митька Рассохин и Гришка Косых, Толя Каравай и Юрка Нос, старик Кирьяныч. Полковника нет.
«Лучше б он тут был. Случай чего… пресек бы, — подумала Серафима и не вовремя повернула пивной кран, пена щедро полилась через кружечный венец.
— С подогревом? — негромко спросила Серафима слесаря Андрея Колыванова, который стоял впереди Маргариты.
— С подогревом.
Серафима хвать с плитки чайник с теплым пивом и — опять промахнулась, опять с верхом налила кружку. Дошел черед говорить Маргарите. Серафима аж вся вытянулась. Мужики с разных столов приметно глядели в центр событий. Маргарита рассеянно оглядела прилавок, витрину, застенчиво улыбнулась и спросила:
— А что, разве водки у вас нету?
— Сегодня нету, — виновато и ласково ответила Серафима. — Вино только сухое, из Алжиру.
— Я водки хотела, — еще более застенчиво сказала Маргарита.
У Серафимы защемило в сердце.
— Сколько вам водки? — утишенно спросила она.
— Грамм сто… Лучше сто пятьдесят.
— Вы садитесь сюда. За этот столик… Что-нибудь придумаем, — по секрету шепнула Серафима.
Указанный стол по статусу не был служебным, но часто служил для избранных. В последнее время его неизменно занимал Полковник.
Маргарита села на стул, скинула с головы на плечи пуховый платок, стряхнула капельки растаявшей снежницы с меховых обшлагов пальто и ворота.
Серафима, выходит, напрасно струхнула, увидав нежданную гостью.
— Нет уж, Сима, — шептала ей в рыжие кудри, прикрывавшие ухо, тетка Зина, — кто из баб водочку-то полюбил, того мужицкая любовь не проймет! — Она поставила на поднос тарелки с нехитрой закуской и стеклянный непрозрачный графинчик с водкой, приготовленный Серафимой, и понесла Маргарите.
Мужики потянули носы в сторону дефицитного графинчика, но дружно помалкивали. Даже остряк Карлик не дал комментария — случай исключительный: замиряются две бабы одного мужика.
Маргарита выпила пару стопок, почти сразу — одну за одной. Потом скинула с плеч пальто на спинку стула. Огляделась. Прочитала настенную табличку «У нас не курят». Но мужики-посетители дымили напропалую. Она тоже достала пачку «Казбека», закурила, расслабленно облокотилась на стол.
В пивной — тепло, уютно, даже задушевно. Звучала слитным гудом мужская речь. Это мужское многолюдье особенно выделяло и в чем-то защищало Маргариту. Это мужское многолюдье напомнило ей армейский полевой штаб. В огромной каркасной палатке она сидела в уголке с рацией, а вокруг большого стола посредине, где разложена карта, расхаживали офицеры штаба, о чем-то спорили, указывали на синие и красные стрелки и топографические меты на карте, что-то промеряли циркулем; вдруг кто-то из них предупредительно выкрикивал: «Товарищи офицеры!» — и в штаб входил генерал Енисейский, как всегда подтянутый, свежий и немного молодящийся, возможно, только ради нее… Генерал Енисейский иногда ловил ее взгляд и улыбался ей, и она чувствовала себя под его несокрушимой защитой… А когда начинался авианалет — прорывался какой-нибудь немецкий ас за линию фронта, — все офицеры первым делом пропускали ее вперед, чтоб укрыться в тесном временном блиндаже. Потом офицеры штаба опять окружали стол с картой, и под своды палатки плыл и плыл табачный дым; все они много курили, она закуривала вместе с ними, они подносили ей огонек зажигалки.