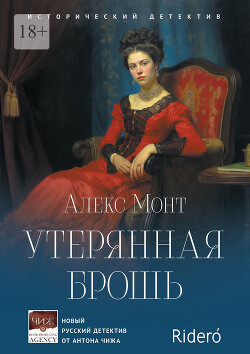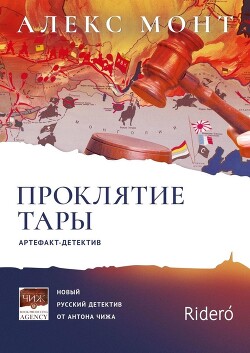Из хроники времен 1812 года. Любовь и тайны ротмистра Овчарова - Монт Алекс
К вечеру, с одобрения курировавшего их «секретное производство» лейтенанта, переезд состоялся, наружный замок исправлен и навешен на прибитую крепко-накрепко скобу, ключи подобраны, а с внутренней стороны Пахом приладил надёжный засов, дабы уберечься от неожиданных вторжений любопытствующих посетителей. Ставить особый знак на гравировальной доске, дабы изобличить собственноручную ассигнацию, Овчаров пока не спешил. Он решил напечатать определённое количество правильных банкнот, чтобы самому воспользоваться ими в будущем. Как только лейтенант уходил, получив очередную партию ассигнаций, они вновь запускали машину и работали на себя. Пахом не перечил Павлу, хотя и не одобрял его «сверхурочной» деятельности. Акулина мало-помалу освоилась, пообвыкла и, переодевшись в принесённый гусарами гардероб, с удовольствием щеголяла в нём по Кремлю, вызывая одобрительные улыбки гвардейцев и собирая богатый урожай конфет, печенья, кусков сахара и прочих найденных в московских погребах припасов.
— Добытчица-то наша, Акулина, сызнова полный подол гостинцев нанясла! — ласково глядя на девочку, встречал её возвращение мастеровой.
— Совсем барынькой стала. Все тебя любят да лелеют! Ишь сколько подарков надавали! — вторил ему ротмистр и невольно задумывался. Не за горами объяснение с господами девочки Давыдовыми. И неизвестно, как они на его предложение посмотрят. Да и Анне надобно об ней рассказать, — тревожился за судьбу Акулины Павел.
— Пахом, ночью зачнём печатать сторублёвки. Где те, исправленные тобой доски? — через пару дней усиленной работы с десятирублёвками спросил он гравёра.
— В сундуке припрятаны, барин.
— Поменяй их заместо красненьких, а то дело подвигается весьма неизрядно. Номинал маловат. Подобным манером я потребную сумму нескоро соберу.
— А как с ихним лейтенантом быть? — засомневался нахмурившийся гравёр.
— С ним я что-нибудь придумаю. А может, — Овчаров задумался, — ничего придумывать и не стану. Полагаю, за несколько ночей мы довольное число банкнот изготовим и сызнова за красненькие возьмёмся. Токмо до́лжно будет на доске той росчерк, для глазу едва уловимый, пририсовать.
— Мне-то што, барин, надобно — так подрисуем! Делов-то с гулькин нос, — насупленно буркнул Пахом и отвернулся.
Овчаровская затея всё более настораживала его. За три ночи, как и обещал Павел, они управились со сторублёвками и, поставив необходимый росчерк на гравировальной доске, вернулись к изготовлению красненьких. Лейтенант не заметил едва видимой закорючки и без тени подозрения принял ассигнации, как и прежние, без опознавательного знака, не забыв оставить расписку.
— После полудня пойду на Поварскую, надобно генерала Сокольницкого навестить да испросить вестей о Кшиштофском. А то что-то сержант Брюно со своими гвардейцами молчит и к нам глаз не кажет, — объявил о возникшем намерении Овчаров.
— Воля ваша, барин. Тока за Акулькой один я, боюсь, не угляжу, больно шустра и непоседлива стала! Не дитё, а сущее наказание!
— Я её с собою возьму. Пущай на Москву поглядит! Хоть и сгоревшую, но всё ж таки Москву.
Акулина с восторгом отозвалась на идею дяденьки погулять по столице и, выбрав из своего гардероба новое платье, отправилась на прогулку.
— Ой, дядинько, поглядайте! — воскликнула она, указывая на тяжело катившуюся по Моховой четырёхместную, походящую на старинный рыдван карету, заложенную гусём. — Какая чудная одёжа у таво кучера! — дивилась она несообразному одеянию возницы. В овчинной сермяге, подпоясанной широким кушаком с пышными золотыми кистями и мужицким треухом набекрень, он и впрямь выглядел чудно́.
— Чему удивляться, Акулина. Сейчас каждый одевается во что горазд. Время такое, — отвечал Овчаров, глядя с усмешкой на нелепый, скособочившийся вправо и немилосердно скрипевший экипаж. — Дёгтя на колёса пожалели! — вдогонку удалявшемуся рыдвану укоризненно бросил он.
На Воздвиженке их взору представилось зрелище позанятнее. В открытых колясках и франтоватых бричках, вальяжно развалясь, катались французские офицеры с разряженными донельзя, ярко нарумяненными девицами. Их головы и шеи украшали тяжёлые ожерелья крупного жемчуга и других драгоценных камней, перста блистали золотом и сверкали бриллиантами, турецкие и персидские шали укрывали их дебелые плечи, а поверх них были накинуты бархатные епанчи, отороченные бобрами и соболями. Некоторые из сидевших в экипажах женщин закутались в шикарные чёрно-бурые лисьи салопы, будто купчихи-миллионщицы. Вчерашняя прислуга нарядилась в одежду своих барынь и, исполненная гордыней и собственной значимостью, пустилась во все тяжкие и ни капли не жалела об этом. Презрев стыд и женскую добродетель, московские красавицы чувствовали себя превосходно на нежданно свалившемся на их головы празднике жизни. Пир во время чумы достиг апогея…
— Дзень добрый, пан генерал! — приветствовал Сокольницкого Овчаров, когда вместе с Акулиной был проведён капитаном Солтыком в кабинет пана Михала.
— О, пан Овчаров! Искренне рад вас видеть. Благодаря вашим усилиям и настойчивости нашему другу стало значительно лучше, — решил не откладывать добрую весть Сокольницкий.
— Вы навещали Хенрика?! — искренне удивился Павел.
— Собираюсь это сделать сейчас. Доктор Ларрей осмотрел его, промыл какими-то своими растворами его раны и сказал, что он поправится, хотя припадать на раненую ногу, к сожалению, будет.
— Прекрасная новость, пан генерал! Представляю, как обрадуются пан Владислав и сестра Хенрика пани Эльжбета!
— Я уже написал им, не забыв упомянуть, что без вашего вмешательства их сын и брат едва ли бы выжил.
— Ежели вы не против, пан генерал, я бы с удовольствием отправился в госпиталь с вами. Не знаю, правда, как обойтись с мадемуазель…
— Какая премилая панёнка! [62] — улыбнулся Сокольницкий. — Это ваша?
— Девочка прибилась к нашему бивуаку, когда я ездил за Хенриком. Она круглая сирота. Покамест я взял её к себе на правах воспитанницы, что будет дальше, не знаю, — признался Павел, упредив дальнейшие расспросы.
— Проклятая война, будь она неладна! — повёл плечами Сокольницкий, тяжело поднимаясь из кресел. — Мой экипаж к вашим услугам, места на всех хватит, — любезно предложил он.
Проезжая набережной и следуя Кремлём, Овчаров заметил ощутимые перемены. Боровицкие и Тайницкие ворота были окопаны рвами с палисадами, на валах стояли пушки и расхаживали караульные с ружьями. Возле повреждённого Москворецкого моста французы навели бревенчатый плавучий мост, по которому беспрепятственно шли тяжёлые транспорты на тот и другой берег. Спасские ворота оставались свободными, только по сторонам их возводились высокие деревянные подмостки.
«Неужели их мастерят, чтобы добраться до образа Спасителя и содрать с него золотую ризу?» — подумал с негодованием Павел.
Никольские ворота также укреплены были валом и пушками. На противоположной стороне Кремля, в обгорелых лавках Гостиного двора, как в бивуаках, разместилось остальное неприятельское войско, а на самой площади толпилось великое множество разномастных мундиров. Проезжая Воскресенскими воротами, мимо часовни Иверской Божьей Матери, он увидел учреждённую в ней гауптвахту.
«Жизнь у французов налаживается, как я погляжу!» — отметил себе ротмистр и кинул быстрый взгляд на Сокольницкого. Тот оставался безучастным и хранил сосредоточенное молчание.
Поглощённый своими думами, он не обращал внимания на происходившее за окном кареты, будто окружающий мир перестал существовать для него. Сокольницкий остро переживал отстранение от дел (после Бородинской баталии Наполеон, сославшись на его раны и необходимость восстановления, откровенно «задвинул» генерала), однако главная причина его потухшего настроения крылась в развалинах Москвы. В них, окаянных, рушились надежды поляков на возрождение великой, от моря до моря, Польши. Победа над Россией, о которой поспешили уведомить трепетавшую Европу, стремительно улетучивалась, как дым с московских пожарищ. Слухи о «мирной» миссии Лористона и прочие инициативы Бонапарта договориться с русскими убеждали пана Михала, что кампания проиграна, и Польша станет разменной монетой в неизбежном торге великих держав. Само существование Варшавского герцогства, даже как всецело зависимого от Франции государства, представлялось ему теперь призрачным.