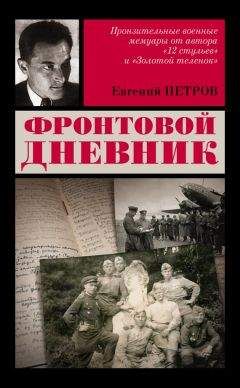Николай Сергиевский - Семибоярщина
Об этом Матвей Парменыч и сообщал рязанскому воеводе, прося его немедля списаться с украинскими и донскими казаками. Весть эта чрезвычайно обрадовала Прокопия Петровича. Он уже и сам раньше думал о необходимости послать грамоты-воззвания на Дон и Украину, да все не решался, не имея никаких данных, чтобы судить о том, как они будут встречены казаками, и опасался, как бы вместо добра его грамоты не принесли беды. Но раз теперь пришла уверенность в возможности склонить на свою сторону видных казацких атаманов Заруцкого и Трубецкого и раз к тому же сами калужские казаки были уверены, что их сородичи и земляки на Дону и Украине последуют их примеру, действовать можно было смело. Правда, связываться с ними казалось рязанскому воеводе делом рискованным, но все же силу они представляли огромную и расположить ее в пользу московского дела во всяком случае следовало попытаться.
И, обдумывая теперь содержание грамоты, Прокопий Петрович углубился в свои мысли и по привычке, возбужденно, вперевалку шагал из угла в угол по «комнате», помахивая в лад ходьбе оттопыренными руками.
Глубокая складка появилась между бровями. Морщины избороздили его высокий, открытый лоб. Неустанная усиленная работа последнего времени заметно отразилась на внешности воеводы: заострились черты, резче обозначились скулы на его несколько грубоватом, простецком, неладно скроенном, но крепко слаженном лице, заросшем рыжеватыми мочалообразными прямыми волосами. Вообще воевода не любил и не привык щеголять, а теперь подавно ему было не до забот о внешности: его коренастую, широкоплечую, невысокую фигуру облекали сильно поношенный домашний зипун и рудо-желтые штаны, которые, как и зипун, во многих местах были запачканы чернильными пятнами. Из-под пол зипуна выглядывали голенища красных сапог, побелевших от времени. Неказистой казалась запущенная среди деловых забот внешность воеводы, однако во всем его облике чувствовалась большая физическая и нравственная сила, отвага и энергия, которой молодо горели из-под насупленных бровей его живые, острые глаза.
Обдумав, шагая по горнице, содержание грамоты-воззвания, Прокопий Петрович собрался было кликнуть Дамиана Евсеевича, но повременил и подошел к столу, чтобы предварительно прочесть еще раз письмо Матвея Парменыча. И вдруг приписка сбоку, ранее второпях не замеченная воеводой, обратила теперь на себя его внимание. Он быстро прочел ее, и досада и тревога отразились на его лице Матвей Парменыч наспех, уже перед отправлением письма, сообщал, что по случайно дошедшим до него сведениям недруг боярин Цыплятев задумал послать в Рязань приспешника своего, горбуна Кифу Паука с поручением проникнуть к воеводе, снискать его доверие, все вызнать и выкрасть грамоты. Сведения эти дошли до Матвея Парменыча действительно случайно: племянница дворецкого Ларивона была замужем за Семеном Лопухом, сыном стряпухи дьяка Разрядного приказа Власьевны; дьяк водил знакомство с боярином Зыблевым, который, в свою очередь, знался с боярином Цыплятевым; его дворня проведала каким-то образом об отъезде Паука и о данном ему поручении, и от холопа к холопу сплетня дошла до Семена Лопуха, а затем, через дворецкого, до Матвея Парменыча. Он просил воеводу иметь это сообщение в виду и, если горбун Паук явится к его двору, принять соответствующие меры.
«Эк ведь как опростоволосился! — про себя выругался воевода, прочитав эту приписку. — Недаром Евсеич предупреждал, так нет, не поверил. Ну, постой же, слшренный странник Лукич, покажу я тебе, как воеводу морочить!»
Он хлопнул в ладоши. Вошел Дамиан Евсеевич.
— Каюсь, Евсеич, — сказал воевода, — сглупил, по-твоему вышло. — И, притворив дверь, он передал дьяку сообщение Матвея Парменыча.
— А я, Прокопий Петрович, сказать тебе вчера хотел, да не осмелел, — вполголоса ответил дьяк. — Хватился я поутру вчера грамоты боярина Роща-Сабурова, которая в прошлом месяце о московских делах писана. Велел ты список с нее списать. Ну, стал искать. В боковуше, где грамоты в рядах сложены, не оказалось. Завалилась, думаю, куда. Будет время, поищу. Сегодня искать принялся, да ее и след простыл. Другой грамоты хватился — и той след простыл. Дивное дело: боковуша-то у меня день и ночь на запоре. Порешил перечет прочим всем грамотам сделать, да до ночи отложил, как приказные уйдут. Уж не взыщи, Прокопий Петрович.
— Моя вина, Евсеич, нечего мне с тебя взыскивать, — положил ему руку на плечо воевода. — Не послушался вовремя. Ну ладно, давай-кась поищем вместе грамоты те. Авось найдутся.
Он отворил дверь в соседнюю горницу, где при его появлении дружнее заскрипели перья борзописцев, почти вплотную от усердия пригнувшихся к столам.
Воевода остановился у порога.
— Кифа Паук! — зычным голосом сказал он. — Пойди-ка сюда. Боярин Цыплятев весточку тебе прислал.
Паук, внезапно услыхав свое имя, невольно приподнялся, но тотчас же быстро сел, ушел глубже головой в сутулые плечи и притаился.
— Тебе говорю, Кифа Паук! — шагая к нему, грозно повторил воевода.
Но Паук замер от страха. Приказные и писцы тоже притихли недоуменно. А он продолжал сидеть и скрипеть пером, как бы не понимая, что обращение относится к нему.
— Ладно, — багровея от гнева, сказал воевода, — если старое прозвище свое забыл, по-новому тебя повеличаю: ну-кась, смиренный странник Лукич, поди-ка сюда.
Паук, весь дрожа, встал.
— Подай грамоты! — вдруг зычно крикнул воевода.
Водворилась жуткая тишина.
— Какие, милостивец, грамоты подать велишь? — перехваченным от волнения голосом спросил Паук.
— Те, что из-под запора скрал, жулик ты бесстыжий, — сильнее багровея от гнева, сказал воевода.
— Не знаю я, о чем приказывать изволишь, — несколько оправляясь от первого смущения, смелее произнес Паук, дерзко глянув своими раскосыми глазами в лицо воеводы.
— Не знаешь?
— Не знаю, милостивец, — не выдержав пристального горящего взгляда, снова потупился Паук. — Не знаю, в чем провинился, о чем гневаться изволишь. Видно, обговорен кем перед тобою ложно.
— Добре! — мрачно насупился воевода. — Если так, сами поищем.
Он кивнул в его сторону двум рослым дюжим холопам, стоявшим у дверей.
— Пощупайте-ка молодца.
Холопы, поняв приказ, решительно подошли к Пауку. Тот, внезапно утратив свой смиренный вид, сжал кулаки и приготовился к защите. Отвратительное лицо его стало страшным от злобы. Весь мгновенно изогнувшийся, с резко выпятившимся сзади горбом, он походил на какое-то уродливое хищное животное. Холопы протянули уже руки. Тогда Паук выхватил из голенища сапога длинный острый нож, словно кошка, стремительно отскочил к большому широкому двойному окну и быстрым взглядом смерил расстояние до земли.
Приказные повскакали со своих мест.
— Хватай! — пронзительно и властно крикнул воевода.
Холопы кинулись. В воздухе, царапнув лицо одного холопа, мелькнул нож. Брызнула кровь. Раненый холоп, рассвирепев от боли и злости, мощно, точно железными клещами, обхватил туловище горбуна в то время, как другой ловким ударом сбил его с ног. Началась бешеная свалка. Из сеней прибежали еще двое холопов.
— Раздевай его, ищи! — приказал воевода.
Подобие страннической рясы, разорванное в клочья, было сдернуто с Паука. Обезоруженный и окруженный холопами, он поднялся с пола. Страшно уродливый, с грязным, давно не мытым телом, с несоразмерно длинными руками, он был безобразен. На широкоплечей сутулой спине возвышался огромный костлявый горб, а на груди, привешенный к шейному гайтану, болтался какой-то сверток, обернутый в онучу. Один из холопов по знаку Дамиана Евсеевича сорвал его и подал воеводе. Тот быстро развернул его: в нем были пропавшие грамоты.
Паук повалился в ноги воеводе и, судорожно обхватив их, стал колотиться головой об пол.
— Милостивец, помилуй! — визгливо завопил он. — Бес попутал. Не вели казнить. Отслужу верной службой!
Зрелище было отвратительное.
— Служба твоя, пес негодный, мне не нужна, — гневно сквозь зубы процедил воевода, — а миловать тебя я не волен: долг мне велит выдать тебя с головой боярину Роща-Сабурову. Посчитаться с ним авось кое-чем найдется у тебя. Наперед же я и сам уж с тобой посчитаюсь. А покуда — в подклеть его на съезжую.
Холопы подхватили судорожно вопившего горбуна и выволокли его из горницы, а затем через сени — за дверь. Там Паук завопил еще яростней — лютый мороз, будто огнем, ожег его обнаженное уродливое тело. Вскоре, однако, крики смолкли: он был водворен в подклет на съезжую.
В свертке помимо грамот оказался узелок с завязанными в него деньгами. Воевода развязал его.
— Нищей братии раздай, — протянул он деньги Дамиану Евсеевичу. — Немного холопам удели за работу, лихо справились. Ну, а теперь за дело. Довольно потешились.
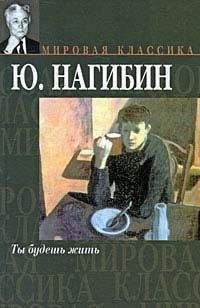
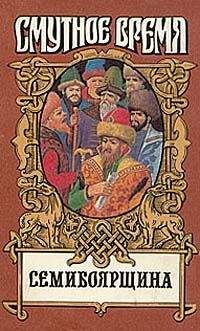
![Ирина Кнорринг - Повесть из собственной жизни: [дневник]: в 2-х томах, том 1](/uploads/posts/books/41661/41661.jpg)