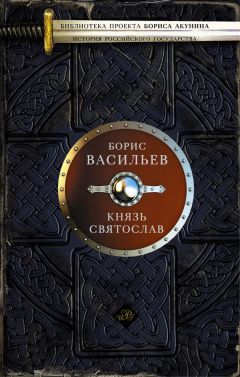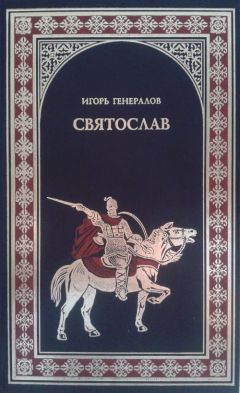Ольга Гладышева - Крест. Иван II Красный. Том 2
— Ты дала мне много знаний. Скажи свою женскую тайну, — настаивала Тайдула.
— Говорят, в Китае есть женщины, которые каждый раз являются мужу как бы девственницами. И про меня такое придумали. Но моя сила была в другом. Я оказалась умна. Молва разносит и про твой ум. Но это только сочинения. На самом деле ты не настоящая монголка. Твой ум — не ум природной степнячки. Он собран из чужих мыслей и описаний. Чем тут гордиться?
— Я не горжусь, — скромно возразила невестка. — Ты, кажется, горячишься? Это тебе не по возрасту.
— Ты не способна разить как великая женщина. Кусаешь, как блоха.
— Великая женщина, какой ты себя считаешь, не вступает в перебранку. Бранятся, как равные, только блохи.
— Отныне я замолчу для тебя навсегда. — Тайтугла омыла ладонями лицо. — Я полагаюсь во всём на Аллаха. Но твоя судьба в моих руках, знай, царица. Мне известно о русском князе. Пусть его нет в живых уже четыре года. Но это было.
— Что было? — помертвев, но надменно промолвила Тайдула.
— Во дворце всюду глаза и у стен уши. Иди и думай о труде жизни, чтоб могущество твоё не превратилось в пыль.
«Сука помойная! — выругалась про себя образованная Тайдула. — Сдохла бы ты скорее! Где ж моя сила, моё право, моя воля?..» Но как ни брани старуху, польза от разговора с ней есть. Справляйся, говорит, сама. Это главное. Про Семёна она ничего не скажет. Ей всё равно. Так, пуганула на всякий случай... Конечно, смерть великого князя московского была тяжёлой утратой. Не забыть, не забыть его наглых тигриных глаз, дерзких и грубых рук, частого дыхания и поцелуев — странный обычай русов! Ударом кинжальным стала весть о его кончине. Но смерть тогда была всюду, незримая и неотвратимая. И только воля Всевышнего спасала избранных. Но — почему?.. Князь Иван, пучеглазый и женственный, остался жив, а Семёна не стало. Почему так было назначено?
Имам не поднялся при её появлении. Заметив промельк гнева на её лице, спокойно напомнил:
— Мы не встаём даже перед великим ханом.
Тайдула через силу улыбнулась, она не знала, с чего начать.
Имам оказался стар, лукав и любопытен. Его борода была белёса, как степной солончак, а взгляд живой и проницательный. Он молчал, ни о чём не спрашивая. Молчала и царица.
— Можно ли постичь волю Аллаха и молить его о перемене участи? — наконец произнесла она.
— А покорность? — тихо спросил имам. — О чьей участи ты говоришь?
— О своей.
Положив ладони на колени, имам немного покачался из стороны в сторону.
— Она уже предначертана на небесах. Что томит тебя?
— Не знаю. Мне кажется, я чем-то больна.
— Зови целителей.
— Не хочу.
Имам ещё покачался. Сколько людей прошло перед ним, прося о помощи, но желая скрыть свои мысли и грехи, ища врачевства, но тая и болезнь, и её причину. Он так знал людей, что ему давно стали скучны их детские недомолвки. Всё он понял не хуже Тайтуглы, а даже ещё лучше. Поэтому сказал:
— Покойный Ибн-Батута, арабский путешественник, рассказывал мне. Когда он принёс в подарок хану блюдо со сластями, тот всунул в него палец, положил палец в рот и более уже не повторял этого.
Лицо Тайдулы стало тёмным от прихлынувшей крови.
— Это всё, что я могу услышать от тебя?
Имам перестал качаться.
— Некто имел нарыв в горле. Желая избавиться, он проколол его. И умер.
Царица поднялась бесшумно и угрожающе, как гюрза средь камней пустыни. Только что свиста не издавало раздувшееся в тесном вороте горло. Войлок на входе долго качался после её стремительного исчезновения.
Значит, это известно даже имаму... Он пользуется иносказаниями, щадя её гордость. Джанибек стал другим. Меж ними нет больше совета и понимания. Она думала, его замкнутость, внезапные вспышки гнева, всегдашнее выражение недовольства — это переживание им убийства своих братьев. Но прошло слишком много времени, голос совести должен был утихнуть или замолчать совсем, если, конечно, совесть есть у Джанибека. Власть вообще-то не предполагает наличие совести. Чтоб жить по велениям последней, существуют отшельники и святые. Мрачность некогда весёлого и легкомысленного мужа таит в себе нечто другое. Старшая жена мало видит хана. Он всё время в походах. И все дороги его походов стекаются в Крым.
Тайдула, подумав и полистав творения некоторых восточных поэтов, послала мужу с гонцом письмо: «Я посылаю тебе привет с каждым всадником на улице, с каждым лунным светом, с каждым дуновением ветра, с каждой сверкающей молнией, мой нежный повелитель! Как кошка с мышью, любовь играет с моим сердцем. Я жду тебя в душной тьме моей страсти, когда Плеяды висят на небе, как гроздь винограда... Волосы мои подобны чернейшему шёлку, и груди мои обнажены, изнемогая от жажды супруга, они выдаются вперёд, они взывают к тебе... Я не сплю, хотя уже заходит луна и река стала синим ковром, расшитым золотом. Груди мои под распущенными волосами как янтарь в чёрной оправе. Без тебя нет у меня ни счастья, ни поддержки. Мои бедра бесстыдно раскрыты в ожидании тебя. Будь со мной распутен и страстно желай меня. Пусть покроемся мы скользким потом любовной скачки, как молодые лошади, неутомимые и неистовые». Неужто не проймёт? Думала, он должен примчаться немедленно на такой призыв.
«Мой дух смешался с твоим духом, как вино смешивается с прозрачной водой», — кратко ответил на письмо супруги Джанибек. И всё.
Она поняла, что теряет его. Она отодвинута. Её положение зашаталось. Ей казалось, это видят все, и всем известна причина, а ей — нет. Мир стал блекнуть в её глазах, ничто её более не занимало, во всём ей чудилось коварство и уязвление. Она ощущала себя ещё более старой, ещё более мёртвой, чем Тайтугла. Единственно, к кому оставалось доверие, царевна Иткуджуджук, «маленькая собака», дочь Узбека. Но что могла сделать для ханши милая, тихая Иткуджуджук, вся погруженная в заботы о старом муже, беглеберге, погибающем от болей в суставах и во всём теле? Колени, локти, запястья его распухали, кожа на этих местах истончилась, покраснела и лоснилась. Во время ночных приступов Исабек выл и стонал на весь Сарай и просил, чтоб его прикончили. Джанибек давно отстранил его от военных дел, и это ещё усугубило муки несчастного.
— Пусть меньше жрёт мяса и реже напивается, — грубо советовала ханша Иткуджуджук.
«Маленькая собака» плакала, вздыхала и говорила:
— Ах, Тайдула, я вижу, тебе самой плохо... Как я устала от этого старика! Твой муж ещё молод и горяч, а я совсем не знала радостей. Для кого я наряжалась и купалась в кобыльем молоке?
— Овца ты, — холодно отвечала царица. — Зачем живёшь? Ты забыла, сколько тебе лет, ты забыла, когда смеялась. Ты рожаешь, ешь и проводишь ночи, меняя примочки, которые не помогают больному. Отсутствие поступков убивает в человеке душу.
— Что ты хочешь, чтобы я сделала?
— А ты решишься? — сомневалась Тайдула, уже засматривая «маленькой собаке» в глаза.
— Прикажи... Если я сумею...
Сухой ветер взбивал пыль на улицах Сарая, как было это веками, как будет взбивать он её и на развалинах города.
— Ровная дорога скучна, — шептала Иткуджуджук, промокая глаза краем тастара[28].
Они стояли возле узкого окна дворцовой башни. Плоский, грязный, богатый город, утыканный иглами минаретов, расстилался внизу. Тополя вдоль улиц шатались от ветра.
— Давай что-нибудь придумаем, сотворим что-нибудь запретное? — предложила дочь Узбека. — Хочешь, позовём персиянина, которого любил Тинибек, помнишь? Он смешной и робкий, как женщина. Пусть расскажет, как его царевич покрывал.
— Разве он жив? — задумчиво произнесла Тайдула.
— Конечно. И служит у Исабека. Мой беглеберг теперь распоряжается только юнцами. Персиянин среди них. Иногда он переодевается в женские одежды для безопасности проезда.
Тайдула засмеялась.
— Когда Исабека отпустит и он перестанет рычать от боли, найди ему развлечение. Если великий хан будет писать в Солхат, пусть твой муж скажет персиянину, чтоб выкрал послание. Я хочу его прочитать.
Испуг мелькнул в лице Иткуджуджук, но ненадолго.
— Скажу, — согласилась она. — Они оба обижены на Джанибека. Они сделают, как велишь.
— Ты будто не во дворце выросла, — опять усмехнулась ханша, — Велишь!.. Это просто шутка. Поняла?
— Поняла, — упавшим голосом сказала Иткуджуджук. — Я в капкане... Как лисица в капкане.
— Я освобожу лисицу! — недобро пообещала ханша.
2