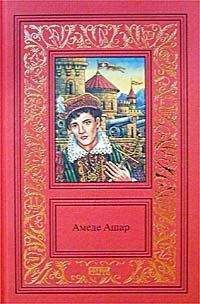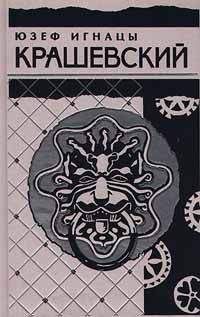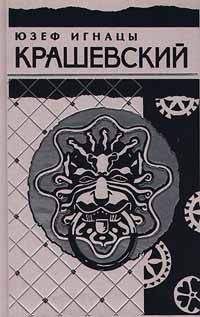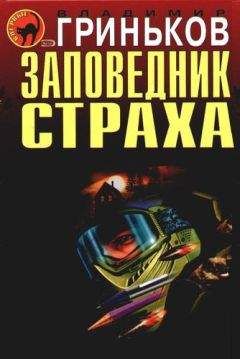Павел Шестаков - Омут
— Хаос бытия лишь следствие взаимодействия главных сил — вселенной и человека.
— Да вы философ! Завидую вам.
— У меня перед вами одно только преимущество, мне осталось жить меньше.
Воздвиженский ошибался, ему предстояло жить еще больше двадцати лет, а Юрию меньше двух.
— Вы так мало цените жизнь?
— Как вам ответить, Юра?.. Жизнь нельзя ценить меньше или больше. Или вы ее цените, или… смотрите со стороны. Я так думаю.
— И это можно… смотреть со стороны?
— Я стараюсь. Однако не уверен, что уже преодолел себя.
— А что делать мне?
— Ваш путь, кажется, определился.
— И что бы вы сделали на моем месте?
— Боюсь, что никто и никогда не может оказаться на месте, предназначенном для другого.
— Почему же? Идешь в наступление, спотыкаешься о кочку, невольно ступаешь в сторону, и тут твое место в цепи занимает другой и получает пулю, направленную в тебя. Только потому, что оказался на твоем месте.
— Нет. Вы не ушли от своей пули. Вы лишь посторонились, пропуская чужую пулю.
— Так просто?
— Пожалуй.
— Вы верите в предназначение?
— Да. Мир только представляется нам хаотичным. Мы не можем его понять и боимся сознаться, что он непостижим, а следовательно, и независим от нашей воли, наших усилий, даже мольбы, которую мы вкладываем в молитву.
— Вы отвергаете религию?
— Маленьким я был очень религиозен. Я ведь из семьи священнослужителей.
— А теперь?
Воздвиженский ответил не сразу.
— Я не изменился. Но изменился мой бог. Теперь мне понятнее мнение греков о том, что мир создан плохими богами.
— И вы верите в плохого бога?
— Нет, это упрощение. Я верю в непостижимого… Мой отец верил в справедливого бога. Верил душой. Я помню. А потом он погиб на рельсах, спасая ребенка…
— Из-под поезда?
— Да. Ребенок упал с дебаркадера железной дороги. Я тогда порвал с религией. Мне не нужен был иной бог, кроме справедливого. Конечно, это было наивное, детское представление о боге.
— И вы преодолели его?
— Не сразу. Сначала я стал воинствующим атеистом. Даже на естественный факультет пошел, чтобы разоблачать… Но это оказалось слишком просто. Ведь атеизм привлекателен именно обманчивой простотой. Бога нет, все случайно. Порыв ветра подхватил полу рясы, и она зацепилась… И отец погиб. Ужасно, но очень просто. И понятно. В атеизме все просто и понятно. Откуда мы? От обезьяны. Освободили конечности и начали трудиться. Только зачем пулеметы и пушки делаем, если разумны и трудолюбивы? Разумный ведь не убьет, а трудолюбивый не разрушит… Вот в чем вопрос.
— Зачем же пулеметы?
— Не знаю.
— Но шаг в сторону я сделал не случайно?
— Убежден.
— К чему же наши усилия? Цель жизни?
Воздвиженский спросил мягко:
— А какая у вас цель?
Это был трудный вопрос. К чему он стремится? Свергнуть Советскую власть? Завладеть драгоценностями из банка? Или просто жениться и жить тихим совслужащим? Все это перепуталось сейчас в голове.
— В детстве, по примеру отца, я хотел стать врачом.
— Хотели?
— Да. После первого госпиталя не хочу.
— Оттолкнуло?
— Разочаровало. Слишком много раненых умирало. Что это, по-вашему, судьба или бессилие медицины?
— Судьба тоже загадка. Может быть, звезды слушают нас…
Как влияют на жизнь человека поступки, заметно почти всегда, но далеко не каждый замечает влияние слова, даже собственного. Воздвиженский не собирался и не хотел влиять на жизнь Юрия. В эту темную летнюю ночь он и не думал о том, как слово его отзовется. Он всего лишь делился навязчивыми мыслями, преломляя и замыкая их на себе, не подозревая, что муки его незнания отзываются в хмельной голове Юрия странным «познанием», превращая цепочку случайностей в якобы закономерный ряд заранее предопределенных событий. Встреча с Техником, появление Барановского, знакомство с Софи, авантюристический план ограбления банка — все, что недавно совсем казалось странной игрой ничем не связанных неожиданностей, предстало перед ним в ином свете.
«Я натыкаюсь на ухаб и делаю непроизвольный шаг, чтобы предоставить возможность произойти неизбежному… Как это верно. Не могут же все те ухабы, на которых я спотыкаюсь непрерывно в, последнее время, быть случайными? Нет, это вехи, расставленные судьбой на моем пути. Куда же ведут они?
— Не знаю. Но наверняка к намеченной и неизбежной цели…»
Мысль показалась глубокой, а на самом деле это было лишь — самооправдание слабовольного человека. Но оно пришлось по душе, вносило ясность в хаос. Мнимую ясность…
— Вы очень интересный человек, — сказал Юрий.
Воздвиженский пожал плечами в темноте.
— Возраст располагает к размышлению.
— Разве вы старик?
— По годам еще нет. Но душой… Не зря считается, что впечатления детства сопровождают нас до гробовой доски, а иногда и определяют ход жизни. Моя детская трагедия — отец погиб на моих глазах — как бы разъединила меня с жизнью, выбросила на галерку, откуда сверху я смотрю на сцену. Я наблюдатель, зритель, а не актер, не участник. Да и как участвовать в такой жизни?
Он выделил слово «такой».
— Как можно ее любить или даже ненавидеть? На нее можно только взирать в печальном изумлении. Вспомните Пилата. Наместник могущественного Рима не смог предотвратить зла. А оказалось, что так было нужно. Пока он с горечью умывал руки, вершилась высшая воля. Наверно, и сейчас звезды что-то решают…
— Что?
— Этого нам не узнать.
Вернувшись в комнату, Юрий долго не мог заснуть.
«Этот человек прав. Разве можно осмыслить и понять то, что произошло в мире, в России, со мной всего за несколько лет! Наш разум бессилен. Если это высшая воля, нужно склониться перед ней. А если все-таки хаос случайностей? Тем более. Случай не повторится. Нельзя от него отказываться…»
Еще не изреченная, но ложная мысль звала к логическому завершению. Он вспомнил слова Барановского: «Пока мы живы, мы обязаны сделать все для нашей несчастной страны. В сущности, мы делаем это для себя. Так в чем колебаться?»
И отсюда мысль собственная:
«Богатая сволочь, что ценила нашу кровь по двугривенному, где-нибудь в Монте-Карло швыряет деньги под колесо рулетки, а я буду лезть в земляной норе под чекистские пули. Для кого?»
«В сущности, мы делаем это для себя. Так в чем же колебаться?..»
И зачем, если ведет сама судьба. Через столько препятствий! Через тоннель к свету…
Так ему казалось.
* * *Поздно заснула в ту ночь и Таня.
Собственно, легла она довольно рано, но спать мешали думы и Максим. В открытое окно все время врывались действующие на нервы будоражащие звуки — то визгливые прогоны фуганка, то бессистемный стук молотка. Это плотничал в сарае Максим. Визг и стук не давали ни спать, ни думать. Измучившись, Таня встала, накинула на плечи платок и как была, в длинной ночной сорочке, пошла в сарай.
А Максим как раз отложил инструменты и присел на пороге. Как и Воздвиженский, он смотрел в небо и видел тысячи звезд, но не думал ни о них, ни о себе. Физическая усталость успокаивала, и он просто сидел, с удовольствием ощущая наработавшиеся мышцы.
— Закончил, Максим? — спросила Татьяна. Она была рада, что он уже не у верстака и не придется пререкаться, это было ей почти не под силу.
— Да нет еще.
— До утра колотить собираешься? Раздражение, что подняло с постели, сразу же вновь охватило ее. Она напряглась, готовая к схватке, но Максим пояснил спокойно:
— Не поняла ты. Работу не закончил. А на сегодня — будя. Хотя делов накопилось. Пока мировую революцию делал… накопилось.
Миролюбивый тон располагал к взаимности.
— Что за дела?
Максим вздохнул, но без огорчения:
— Начать да кончить. Рамы жучок поел. Две двери перекосило. На чердаке кое-что подправить нужно. Но это по мелочам.
— А главное что?
Он ответил охотно:
— Мебелью займусь. Посмотри, какую я доску мраморную купил. По случаю досталась.
Максим, встал, освобождая вход в сарай. Там под керосиновой лампой действительно стояла отшлифованная каменная доска.
— Зачем она тебе?
— Умывальник сделаю хороший. С зеркалом. А главное, хочу за письменный стол взяться. Для тебя.
— Для меня? — удивилась она.
— Тебе. Ты ж у нас образованная. Может, и дальше учиться будешь. Раз уж начала. Это мое дело стружку гнать… Выучишься, сама учительница станешь. Где ж детские тетрадки раскладывать? Стол нужен.
Говорил он буднично, без нажима, но в то же время уверенно, как о деле решенном, исключая возможность ухода сестры в другой дом. И хотя это совпадало со всем ее сегодняшним настроением, Таня слушала в растерянности. Трогала забота брата, ей непривычная, но и ранили его слова, вроде бы разводит, не спросившись.