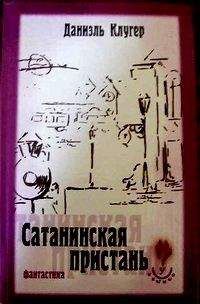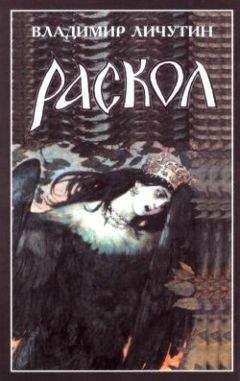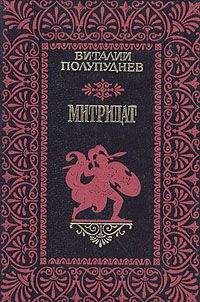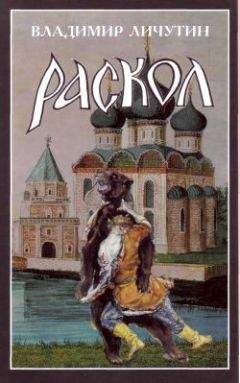Владимир Личутин - Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга I. Венчание на царство
Силится Федосья скинуть бархатный повойник с головы, но, ей-ей, так страшно и опаско отчего-то, словно бы доглядывает с небес неведомый и всемогущий презоркий зрак и упреждает вольности. И тут, откуда ни возьмись, сестра Евдокия: она как бы выткалась из бесцветного мреющего жара, пробилась сквозь невидимый тын, по-девичьи убранная в алый штофник и кисейные расшитые рукава. Легкий сарафан в лазоревых цветах подбит ветром, и житние волосы на отлет, и в каждой хитро скрученной прядке по нитке гурмыжского жемчуга: а сойки настигают лётом, по-вороньи жадно гарча, и словно хлебные зерна, склевывают еще живые скатные ягоды, только что снятые с розовых перламутровых постелей...
Федосья обрадованно протянула руку, приноровилась остановить и приобнять сестру, но в ладони остался лишь скрипящий шорох отскользнувшего шелка. И как вихорь пронесся: нет Евдокии, будто наснилась, и лишь откуда-то из-под раскаленной пустыни донесся звенящий, с ойканьем, блаженный смех удоволенного, радостного человека. И вдруг земля расступилась, пред Федосьей обнаружился круто сбегающий склон, гладко вымощенный черными блескучими плитами, струйчато расшитый богородской травкой; далеко внизу (даже от взгляда, мельком брошенного, вскружило голову), на дне ущелья из малахитового свитка вытягивалась медленная река. Евдокия плещется, взывает сестру, кидает пригоршни окатных жемчугов, подставляя под них девичью наспевшую грудь.
Федосья отшатнулась в испуге, торопливо встала на колени, подползла на самый каменистый оток, зачарованно глядя в торжественную реку, неторопливо утекающую к неведомой земле. И вдруг обмысок зашевелился, отторгнутый, неотвратимо пополз навстречу бездне. Федосья только «ах!», лишь мысленно воззвала Бога, и душа ее вскочила в горло... Но что за чудо? Федосья повисла в воздухе, подвешенная невидимой вервью; она пыталась куда-либо отгрести руками, но ее лишь покачивало мерно, как зыбку на очепе: убаюканное дитя, заспавшееся в утробе. И внезапно небесная сила повлекла в сторону; сестра, застывшая в изумлении, вдруг очнулась, закричала: «С Богом!..», земля расступилась, отринув рудо-желтые проклятые пустыни, и сквозь зачарованные, замкнутые допрежь окаемы открылась восхищенному взгляду вся Русь. Федосья всхлипнула, прощаясь с недавней тягостью, и обомлела успокоенным сердцем, ненасытно разглядывая невидимое ранее, чтобы запечатлеть умом... И вдруг почувствовала она, что Небесная Сила, мягкая и властная, охапила ее за ноги, обняла, как малое родимое дитя. В какой-то миг Федосья ощутила в себе что-то сладостно-любовное, затомилась, но тут же окрикнула себя, устыдилась внезапного очарования, греховное отступило разом, и она воскликнула: «Не блажи, баба! Это совсем другое». И спросила она невидимую Силу без робости, не страшась, как близкого и самого родного человека, испытывая к нему смиренное поклонение, куда большее, чем земная любовь: «Ты Бог?» И невидимая Сила спокойно сказала: «Да, Бог!» И Федосья поразилась не ответу, но голосу – столько в нем было отеческого, нежного и любящего. Она не помнила, чтобы когда-то испытывала от ближних такой обволакивающей приязни, заполнившей всю душу ее без остатка благодатью и кротостью. Федосья покрутила головою, пытаясь разглядеть Бога, но уже понимая, что напрасно хлопочет, ибо вся душа ее была тоже наполнена той Силой и как бы слилась с аером, составив одно всеобщее согласие...
Тут оказались они у столов, заставленных ествою, в блюдах была зелияница – огурцы, квашеная капуста и лук. Федосья понюхала прядку лука, но есть не хотелось, и ее чуть не стошнило. И Бог повлек Федосью далее. Тут преградила путь пожилая ключница и что-то стала торопливо и сурово говорить, с неприязнью взглядывая на Федосью. Но Бог отстранил ее... Несколько ступенек вверх, комната, посреди стол, застланный белой скатертью. За столом восседают десять юношей, рушат хлеб и поют задумчиво такой знакомый псалм: «Мати Божья Богородица, скорая помощница, теплая заступница! Заступи, спаси и помилуй Сего дому господина от Огненной пожоги, от Водяной потопи...» Завидев молодицу, они охотно потеснились на лавке, уступая место, ненадолго умолкли, и крайний спевака, цыганистого вида сиделец, протянул гостье с улыбкою отломок от каравая. Федосья мысленно вопросила Бога, как быть ей, но слов не расслышала; вроде бы и не было ответа, но он и был, неслышимый, бессловесный, сразу горячо уместившийся в груди: «Не чинись и не беги». Федосья приняла ломоть и, не торопясь есть, понюхала хлеб и подивилась сладкому, неземному духу...
Беспамятные глаза болезной растворились без усилья, словно бы и не забывалась женщина, только сухо и жарко щемило веки от пота и слез; виденье было столь ласковым, что не хотелось расставаться с ним. Федосья зажмурилась, желая вернуться в сон, и тут же почуяла свое сырое тело, грузно и безвольно растекшееся на высокой перине, набитой шершавым душным сеном. Словно бы в парной июльской луже, оставшейся от грозового дождя, по-лягушачьи распласталась она изнеможенно, ленясь отползти на бережину и обсохнуть.
...Попаси же ему, Господь Бог,
Хлор, Лавёр лошадок,
Власий коровок,
Настасий овечек,
Василий свинок.
Мамонтий козок,
Терентий курок,
Зосим Соловецкий пчелок,
Стаями, роями, густыми медами.
Федосья скосила глаза, увидала женскую спину, туго обтянутую рясой, и черный плат, сбившийся на затылок кулем. Монашена выпевала духовный стих, принаклонясь к берестяной зыбке, словно бы приноравливалась кормить грудью. Из зыбки по-мышиному попискивало, требовало ествы. Но пока ничто не отозвалось в еще не очнувшемся сердце боярыни; память ее блуждала по-над крышею баньки, где-то на седьмом небе, в пахнущем благовониями аере, в невиданных досель палатах, накуренных миром, посреди которых восседают десять цветущих юношей и ломают запашистый хлеб. Федосья торопливо облизала шершавые спекшиеся губы и почуяла след ситного каравашка? иль сдобной перепечи? иль житнего колоба? иль оржаного колача? Пи-ить! – потребовало все ее истосковавшееся воспаленное нутро, но Федосья пересилила себя и промолчала. Она скосила глаза влево: в паюсное оконце увиделся нагой, еще неприбранный сад, низовой ветер шерстил прошлогоднюю травяную бороду. Чья-то знакомая, родная тень упала на рыбий пузырь, застя свет, но лика не увиделось: тень отшатилась, освободив низкое, мглистое, насыревшее небо. Федосья уперлась взглядом в низкие потолочины, медовые от жара, за ними скрывалось вовсе иное небо, откуда она только что возвратилась; булонь была еще молодой, не засиневела, и два сука в черных обводах морщин походили на плачущие очи Богородицы; из слезниц покатилась и замлела, окаменевши, еловая смолка. Под потолком слоился легкий сизый туманец, переливаясь в легком клине света, тянувшемся от проруба; сквозь сеево странной пыли глаза жили на потолочинах отдельно, о чем-то допирали Федосью; и дух распростертой боярыни желанно утекал в зрачки, похожие на черные жемчуга. Федосья сдалась и покорно уплыла обратно в жалостливое, милосердное Богородицыно око...
Очнулась боярыня живой и здоровой в конце пасхальной седмицы. Чьи-то ласковые руки мяли, оглаживали Федосью, перекатывали с боку на бок, домогаясь всякой жилки; в мыльне было так натоплено, что сухо трещали волосы. Над Москвою лился колокольный звон, чей-то голос от порога выпевал в сени, в приоткрытую дверь: «Это Кирю-ша вы-мо-лил. Святой он человек. Государыня парнишон-ку приволокла. На, тятька, наследника...»
– Ой-ой, гли-ко-о! Хозяюшка-то наша очухалась. Дак ты взаболь очухалась, чи ни? – всхлипнула дородная сенная девка, вдруг поймав осмысленный Федосьин взгляд. Она бросила мять госпожу, принялась растерянно тереть руки высоко подоткнутым подолом костыча. Федосья лежала на сенной постели растелешенная, распластанная, разогретая, как огромная розовая рыба. Груди у нее неловко раскинулись на стороны, как грузные невыпеченные хлебы, из левого соска капнуло молозивом, прохладно щекоча отекший бок. Но Федосье блаженно было, и она лишь умоляюще улыбалась оперхавшими, накусанными губами, пытаясь что-то молвить, но набрякший язык во рту худо ворочался. – Ой, выпугала, так выпугала. Намедни соборовали тебя, причастили. Сам-то уревелся. – Девка спохватилась, радостно кликнула повитуху. Тут скоро выросла старушишка об одном лазоревом насмешливом глазе, сердито ткнула Федосью каменным перстом в лоб.
– Ишь чего удумала баба. Она помирать собралась. Ты смекай, где шалить-то! С семи колодцев воду грели, с семи печей золу огребали. Я и потаенное словечушко на хлебец накинула. Пусть, думаю, болезная пожует. Дух хлебный живо на ноги поставит. Да како-о! Скинулась с копыл, да и обмерла. Будто так и надо. Нет, деушка, я тебе помереть не дам. Умом-то думаю. А ты такая сутырная да поперечная. Зубы-ти эдак-ти хоть косарем разнимай. – Повитуха стиснула, показывая, беззубый рот, отчего острый подбородок поехал к носу. – Слушаться, молодка, не станешь, дак запуку сделаю, ой! Такую запуку знаю, веком не проснешься. – Лампея прыснула, утерла губы концом тафтяного плата. В радость повитухе, что родильница оклемалась, опросталась толком, ныне будет Лампее на зубок, и мыла кусок, и портище красной зендени на рубаху, и талер любекский на разговленье. Много чего насулил богатый хозяин Глебушко Иванович: поди, не обмишулит старенькую, не таковьской он человек...