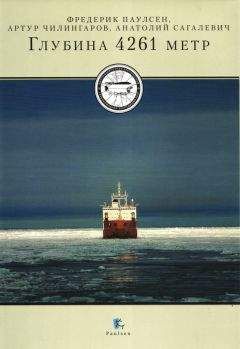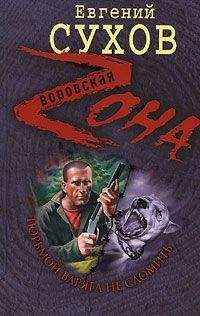Александр Башкуев - Призвание варяга (von Benckendorff)
Мне не следовало приезжать в сей гадюшник. Единственное, на чем сошлись бабушка с матушкой — иезуиты мне обещали гарантии и протекцию: мой прадед по матушке был внуком Генерала Иезуитского Ордена в Рейнланде с Вестфалией, а в Братстве — большое почтение к Крови и былым достоинствам предков.
Вдобавок ко всему Генералом "русской ветви" нашего Ордена был Карл Магнус фон Спренгтпортен — лютеранин и швед. (Бабушка наотрез воспротивилась тому, чтоб на сей пост назначали католика, или — поляка. Бабушка всегда была дальновидною женщиной.) Хоть шведы не слишком дружны с нами — немцами, но поляков они попросту презирают. Так что мое появление в Колледже случилось под прямым патронатом Генерала "русских" иезуитов.
Добавьте к тому, что иезуиты замарали себя помощью всяким Костюшкам и бабушка запретила им свободное передвижение, иль проповедничество средь простого народа. Многие решили, что сие — полное запрещение Ордена, но это — не так.
России нужна была хоть какая-то разведслужба и вся иезуитская система образования осталась нетронутой. Но иезуиты хорошо запомнили тех мурашек, которые по ним бегали, когда моя бабушка (в присутствии своего ката — Шешковского) грозила им пальцем. Так что бабушке с матушкой были даны все мыслимые и немыслимые гарантии, что с моей головы — волос не упадет.
Началось все, как будто — нормально. Меня представили прочим ребятам и определили в казарму к "десятилеткам". Я начинал учебу с зимне-весеннего семестра и сильно отставал по многим предметам, — поэтому мне самому предложили выбрать Учителей и "Кураторов.
Преподаватели сразу же захотели знать — насколько велики мои знания в том, или — этом, — так что я так и не успел познакомиться с прочими "десятилетками". Выяснилось, что я хорошо знаю — химию, физику, математику и геологию с географией. Гуманитарные же науки оставляли желать много лучшего.
Отпустили меня "Кураторы" только лишь к ужину и я чувствовал себя совершенно разбитым и вымотанным. Я так устал, что… был зол на всех и на каждого. В Риге я привык к тому, что все меня считали лучшим учеником, а тут — целый день меня возили "по столу мордой" и я совсем разозлился.
В проверках мы прозевали обед и я был страшно голоден. Меня привели в столовую и посадили за один стол с прочими малышами. Я уже хотел есть (от еды на столах так вкусно пахло!), но все чего-то ждали и я не решился идти поперек местных традиций. Затем появился сам Аббат Николя и стал читать Мессу. Разумеется, по-латыни. И все стали повторять молитву вслед за отцом-настоятелем.
Впоследствии многие говорили, что я проявил лютеранскую твердость, но в ту минуту я попросту хотел кушать и… не знал слов по-латыни. (Каюсь, грешен. Знал бы — прочел и на славу поужинал!) Повторять же за прочими чужие слова я не мог и не желал, ибо сие — Смертный грех.
В ешиве Арьи бен Леви жидята надо мной подшутили, — сказали чтоб я прочел некий текст — якобы сие молитва Всевышнему, а там было написано: "Я — дурак". Верней, еще хуже и во сто крат обиднее. (Что-то из Библии про arsenokoitai. И что-то еще. Я таких слов даже в словаре не нашел!) С тех пор я ни разу не повторил на слух тех слов незнакомого языка, значения коих я пока что — не понял.
Вдруг воцарилось молчание. Ко мне подошли надзиратели и встали за моею спиной. Один из отцов-иезуитов тихо спросил:
— А ты почему не молишься вместе с Братией?
Я постеснялся ответить, что я не знаю латыни и тихонько промямлил в ответ:
— "Vater Unse…" — я не успел даже кончить, как кто-то схватил меня за рукав и громко взвизгнул:
— Ах ты, еретик! Проклятый маленький протестант! Мог бы хотя б сделать вид…
Ребята, обрадовавшись развлечению в монастырской рутине, заорали на все голоса:
— Еретик! Схизматик! На костер лютеранина! Бей протестантов!
Столовая в один миг обратилась в бедлам и мне с настоятелями отрезались все пути к нормальному разрешению. Еще минуту назад они могли сделать вид, что ничего не заметили, а я — попробовать помолиться на римский манер… Теперь же им нужно было карать "схизматика", а я не мог отступиться от Веры всех моих предков.
Все муки голода обрушились на меня, живот сводило от всех вкусных запахов, когда я медленно встал из-за стола и хрипло сказал:
— За сим столом несет кровью моих друзей и товарищей… Я не смею трапезничать в одной компании с убийцами братьев моих… Будьте вы все — прокляты!
В столовой вдруг воцарилась ужасная тишина. Потом сам Аббат Николя веско сказал:
— Молодой человек, вас прислали сюда приказом Ее Величества и не в моей власти вышвырнуть вас отсюда. Потрудитесь пройти, пожалуйста, в карцер. На хлеб и на воду.
С завтрашнего дня вместо занятий вы будете стоять на плацу — при позорном столбе до тех пор, пока не извинитесь перед Колледжем. Я знаю, что в ваших краях идет ужаснейшая война католиков с протестантами, но проклинать за нее ваших Учителей, по меньшей мере, — Бесчестно.
Засим — жду вашего извинения.
Я щелкнул каблуками в ответ и вышел вслед за двумя дюжими надзирателями из столовой. Мне так сильно хотелось кушать, что — ноги подкашивались. Но я вспоминал сладковато-тошнотный запах паленого мяса в Озолях и трупики маленьких девочек со вспоротыми животами. Я теперь не мог извиниться пред сими католиками даже на смертном одре. С голоду.
С того самого ужина и по сей день я чую себя — лютеранином.
Карцер располагался в огромной землянке, в коей в теплое время хранили продукты, чтоб они не испортились. Зимой же здесь было страшно холодно. Мне дали два теплых, шерстяных одеяла и я ими замотался, как кукла. Пара сухих, ржаных сухарей, да кувшин холодной воды, на коей уже стал появляться ледок, не спасли меня от мук голода, а надзиратели нарочно принялись греметь ложками, да вонять тушеной говядиной и картошкой с подливой из слив.
Иной раз сии мучители нарочно подходили к окошку в двери, стучали ложкой по котелку и звали меня:
— Эй, лютеранин! Поди сюда, скажи молитву и ешь на здоровье!
— Ты не понял, Болек, ты не тем его завлекаешь — эти свиньи не жрут говядины, им подавай только свинину! Эй, ты, жиденок — хочешь свининки?! Хрю, хрю — сволочь!
— Нет, правда, мы дадим пожрать — скажи только "Anne Domini", или что-то еще, а?!
Так они развлекались всю ночь — видели в окошко, что я не сплю, а я сидел, сжавшись в комочек, и думал — что было на уме у моего дедушки, когда курляндцы взяли его в плен и приговорили к четвертованию? Что думал мой прапрапрапрадед Иоганн, когда его — мальчиком выводили из пылающей Риги, чтоб жить на болотах — до того дня, пока он не прогнал поляков с нашей земли?
Каково ему было в первый раз съесть слизняка, да лягушку, ибо нормальная еда раздавалась лишь детям, да женщинам на сносях?
Я сидел и мучил себя такими вопросами и в какой-то момент стены карцера вдруг раздвинулись и ко мне вдруг сошли и Карл Иоганн — "Спаситель всех протестантов", и Карл Александр — "Освободитель", и несчастный Карл Юрген, убитый в Стокгольме, и Карл Иосиф — первый владетель русской Лифляндии.
Они сидели со мной и рассказывали, — как это было в их время и чего стоило: кому воевать с всесильной Курляндией, кому прокормить целый народ на бесплодных болотах, а кому и — перед лицом палача не отказаться от своих слов… И с каждой минутой, с каждым их словом я становился сильней и взрослей, а голод и холод отступались от моего бренного тела.
Когда наутро мучители отворили дверь карцера, они не поверили ни глазам, ни рассудку — по их рассказам (и донесениям, сохранившимся в архивах Колледжа) глаза мои стали необычайно покойны и — совершенно не детски. Я был очень бледен, но уже — при полном параде, — готовый стоять хоть всю жизнь на часах "при позорном столбе". Потом мне признались, что сам Аббат Николя, увидав меня у столба, сказал своим людям:
— Этот не извинится. Надо что-то придумать, чтоб и нам спасти свою Честь, и Государыня не взбеленилась, что мы тут морим морозом, да голодом ее любимого внука. Черт побери, она даже Александра Павловича не называет "любимым", а вот этого жида-лютеранина..!
Я, кажется, начинаю понимать — за что!
Пока они так совещались, прошло время занятий, обеда, свободного времени, полдника, прогулки и ужина. После каждых пятидесяти минут стойки навытяжку, мне дозволялось правилами десять минут посидеть в караулке и попить горячего чаю перед печью-голландкой. (В противном случае — я замерз бы еще до обеда!)
Интересно, что если в первый раз охранники (из вольнонаемных русских) даже не шелохнулись, чтоб пустить меня ближе к огню, а чашку я мыл себе сам, ближе к обеду один из них подвинул мне кусок сахару и ломоть хлеба с маслом. Слезы едва не навернулись мне на глаза и с тех самых пор я считаю русских людей — самыми отзывчивыми людьми на свете. (Латыши б не простили врага, а тут…)
Ближе к ужину русские мужики уже нарочно грели для меня чай и сластили его ровно по вкусу. Тайком от начальства они наварили картошки и я потихоньку жевал ее с маслом и солью — божественная еда! Пару раз они пытались заговорить со мной, советуя "не лезть в бутылку". Я же отвечал им, что сие — "Вопрос Веры.