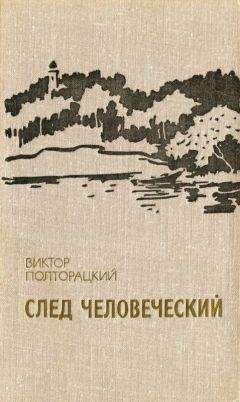Иво Андрич - Мост на Дрине
С целого уезда взяли не более сотни юношей, и, однако же, когда они все вместе собрались в тот день перед Конаком – крестьянские парни с котомками и редкие горожане с деревянными сундучками, – можно было подумать, что в городе мор или мятеж. Безбожно накачавшись с раннего утра, многие новобранцы пили все подряд. Крестьянские парни красовались в чистых белых рубахах. Немногие оставшиеся трезвыми сидели, привалившись к стене, и дремали у своих пожиток. Большинством владело возбуждение, потные лица раскраснелись от выпивки и зноя. Обнимутся четверо-пятеро односельчан, сдвинут головы – раскачиваясь наподобие живой изгороди, и горланят во всю мощь своих грубых голосов, немилосердно завывая и не щадя чужих ушей:
– Ой, де-е-е-ви-и-ца-а-а! О-о-о-ой!
Но еще больше, чем сами рекруты, накаляли обстановку жены, матери, сестры и родственницы новобранцев, пришедшие сюда из дальних сел, чтобы проводить их, в последний раз обласкать взглядом, оплакать и осыпать благословениями и напутствиями перед разлукой. Женщины заполонили всю площадь у моста. Окаменев, словно в ожидании приговора, они сидели, перебрасываясь изредка словами и вытирая слезы уголком головных платков. Напрасно еще раньше, в селах, им пытались втолковать, что парни идут не на войну, не на каторгу, что они будут служить в Вене самому императору и, проведя в тепле и сытости два года, обутые, одетые, вернутся домой и что из других мест тоже поставляют рекрутов, и притом на три года. Все эти слова, подобно ветру, пролетали мимо женщин, не касаясь их сознания и слуха. Женщины слышали только голос собственного сердца и одному ему повиновались. И этот голос древних, от предков унаследованных инстинктов застилал глаза слезами, исторгал стон из горла и наперекор усталости последнего прощального взгляда ради гнал их за тем, кто был им дорог больше жизни и кого неведомый царь забирал в неведомую землю к неведомым искусам и делам. Напрасно и теперь, лавируя среди сидящих, ходили в толпе жандармы и чиновники из Конака, уговаривая женщин не предаваться беспричинному отчаянию, освободить проход и не устраивать давку и толчею на дороге, когда по ней пойдут рекруты, – ведь они все до единого в целости и невредимости вернутся домой! Все уговоры были бесполезны. Они выслушивали их с видом тупой и смиренной покорности, согласно внимали, кивая головами, а затем снова ударялись в слезы и причитания. Казалось, причитания и слезы были им так же дороги, как и тот, по которому они так скорбели.
Когда же настал час выступать и колонна новобранцев по четыре человека в ряд двинулась через мост, поднялась такая невообразимая толчея и суматоха, что самые выдержанные жандармы теряли самообладание. В желании прорваться к своим женщины бежали, толкались, сшибали друг друга с ног. Вопли отчаяния смешались с призывными возгласами, заклинаниями и прощальными напутствиями, иные матери, опередив колонну, предводительствуемую четверкой жандармов, падали им в ноги, били себя в растерзанную грудь и голосили:
– Через мой труп! Через мой труп, окаянные!
С великими муками отрывая женщин от земли, мужчины осторожно высвобождали сапоги со шпорами из их распущенных волос и сбившихся юбок.
Кое-кто из новобранцев, пристыженный, недовольно отмахиваясь, отгонял наседающих женщин, веля возвращаться домой. Но большинство парней по-прежнему орало песни и пронзительно гикало, усиливая общий гвалт. Рекруты-горожане, бледные от волнения, стройно затянули песню, на городской манер.
Сараево и Босния,
Горе да беда,
Провожала в рекруты
Матушка сынка.
Песня вызвала новый взрыв рыданий.
Преодолев образовавшийся на мосту затор, колонна наконец выбралась на сараевскую дорогу, где ее ожидала плотная стена горожан, высыпавших на проводы рекрутов, причитая над ними, точно над приговоренными к расстрелу. Тут также было много женщин, и все они дружно плакали, хотя у них и не было никого близкого среди уходивших рекрутов. Но у каждого всегда был наготове повод для слез, а над чужой бедой плачется слаще всего.
Стена горожан вдоль дороги постепенно редела. Да и деревенские женщины стали поодиночке отставать. Самыми упорными были матери. С резвостью пятнадцатилетних девочек забегали они в голову колонны, перепрыгивали через придорожный ров, стараясь перехитрить жандармов и поближе прорваться к своим. Наконец и сами парни, бледнея и смущаясь, стали оборачиваться на ходу и кричать им сердито.
– Говорят тебе, ступай домой!
Но матери долго еще следовали за колонной, не видя ничего вокруг, кроме своего уводимого сына, глухие ко всему, кроме собственного плача.
Но вот миновали и эти тревожные дни. Народ разошелся по деревням, улеглось волнение в городе. Когда же от рекрутов стали приходить из Вены первые письма и фотографии, и вовсе полегчало на сердце у людей. Долго плакали женщины и над ними, но теперь это были легкие слезы тихой грусти и утешения.
Карательный отряд был распущен и покинул город. Давно уже не стоят на мосту постовые, и опять, как встарь, в воротах сидят горожане.
Незаметно пролетели два года. А осенью в город и в самом деле возвратились первые рекруты – чистые, остриженные и откормленные. Вокруг них собирались земляки, и они рассказывали про свое солдатское житье и про большие города, которые им довелось повидать, употребляя в своей речи диковинные названия и иностранные словечки. Проводы очередной партии новобранцев не вызывали уже таких слез и волнений.
Да и вообще жизнь вошла в обычную колею. Подрастающее поколение почти не сохранило живых воспоминаний о турецких временах и приняло новый образ жизни. Но в воротах и по сей день безраздельно царили старые обычаи. Вопреки новомодной одежде, новым званиям и должностям, на мосту все принимали вид исконных его завсегдатаев, с незапамятных времен проводивших здесь часы досуга в беседах, составлявших как прежде, так и теперь истинную потребность их души и сердца. В свой срок без возмущений и суматохи уходили в армию рекруты. Гайдуки поминались разве что в преданиях стариков. А сторожевой заслон карателей забыли точно так же, как караульню, некогда возведенную в воротах турками.
XIV
Жизнь города у моста с каждым днем оживлялась, приобретала устроенность и благополучие с их неизведанной до сей поры уравновешенностью и размеренностью, к которым неизменно и всегда тяготели любые времена, но что достигалось лишь изредка, урывочно и приближенно.
Далекие и неизвестные нам города, царственной властью своею управлявшие и этим краем, вступили тогда – в последней четверти XIX века – в полосу одного из таких редкостных и мимолетных периодов затишья в человеческих и общественных отношениях. И как величественное спокойствие моря ощущается и в отдаленных заливах, так и здесь, в отдаленных провинциях, ощущалось ровное дыхание мирных времен.
Это были три десятилетия относительного благоденствия и призрачного спокойствия, когда немало европейцев готово было поверить, что открыта непогрешимая формула осуществления золотого сна человечества о всестороннем развитии личности в условиях полной свободы и прогресса, когда девятнадцатый век развернул перед миллионами людей великое множество своих обманчивых благодеяний и ослепил заманчивой иллюзией комфорта, изобилия и процветания для всех и каждого – по сходным ценам и с выплатой в рассрочку. В глушь заштатного боснийского местечка из всей этой жизни XIX века долетали, искажаясь по дороге, смутные отзвуки и отголоски, да и те в той только мере и в той форме, в какой они были приемлемы и допустимы с точки зрения нравов отсталой восточной среды.
После первых лет недоверия, растерянности, колебаний и нерешительности город стал понемногу осваиваться с новым порядком вещей. Люди имели работу, заработок, устойчивое положение. А этого было довольно, чтобы жизнь – жизнь во внешнем своем проявлении – двинулась «по пути совершенствования и прогресса». Все же прочее оттеснялось в темные кладовые подсознания, где таились и бродили подспудные и, казалось бы, давно уже отжившие вековые предрассудки и неистребимые предубеждения расовых, религиозных и сословных каст, подготавливая для далеких грядущих времен непредвиденные перевороты и взрывы, неизбежные, как видно, в истории народов, и тем более этого народа.
После первых столкновений и сложностей новая власть стала вызывать ощущение прочности и долговечности. (В равной степени она и сама разделяла то же заблуждение, но без него немыслима никакая сильная и прочная власть.) Безликая, действующая через всякого рода посредников, она уже по одному этому казалась несравненно легче турецкой. Все, что было в ней жестокого и алчного, скрывалось под маской респектабельности, лоска и корректного обхождения. Люди боялись ее, как боятся смерти и болезни, а не как злобности, насилия и притеснений. Представители новой власти, как военной, так и гражданской, будучи, как правило, здесь чужаками и фигурами лично незначительными, каждым своим шагом давали почувствовать, что они винтики огромного механизма и что за каждым из них находится бесконечная лестница вышестоящих инстанций и лиц. Это придавало им значительность, далеко превосходящую достоинства конкретной личности, и окружало неотразимым ореолом могущества. Своей образованностью, казавшейся здесь весьма высокой, невозмутимостью и европейскими привычками, во всем отличными от их собственных, они внушали доверие, смешанное с почтительным уважением, и не вызывали зависти или протеста, хотя не пользовались ни особыми симпатиями, ни любовью.