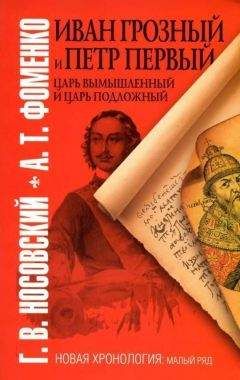Роберт Штильмарк - Пассажир последнего рейса
Сашка сдерживает коней, оглядывается на седоков.
Вкривь торчат два винтовочных ствола. Папахи надвинуты на глаза, воротники шинелей налезли на затылки. Оба почти в забытьи, прохваченные до костей. Сашка натягивает вожжи. Разлетевшиеся кони выгибают крутые шеи, переходят на шаг. У дементьевского крыльца Сашка выскакивает из саней, взбегает на ступеньки. Наган уже в руке…
— Руки вверх! Бросай винтовки!
Стукнули о днище саней упавшие винтовки. Окоченевшие руки еле вытянулись вверх и жалко торчат из шинельных рукавов. Месяц освещает крыльцо, сани, две темные фигуры в шинелях с поднятыми руками. Изнутри дома негромкий возглас:
— Кто там? Что за шум?
— Сюда, Владимир Данилович! Пособите! Двоих тут на прицеле держу!
Та из фигур в шинелях, что была потоньше и повыше другой, метнулась было в сторону, откуда шел встречный лыжник. Овчинников повел наганом вслед бегущему и выстрелил. Беглец не сделал навстречу лыжнику и десятка шагов, споткнулся и упал на снегу. Испуганный лыжник шарахнулся в переулок и припустился наутек. А позади Сашки распахнулись двери дома. Из сеней на крыльцо выскочили пятеро мужчин с револьверами наготове. Человек в кожаном шлеме окликнул Сашку:
— Это ты, товарищ Овчинников?
В ответ — радостный Сашкин голос, чуть охрипший с мороза:
— Я самый, товарищ комиссар Шанин! Здравствуйте, Сергей Капитонович!
Овчинникову повезло! Отправляясь в путь с двумя бандитами за спиной, он ведь и не подозревал, что в доме капитана Дементьева остановились все четверо авиаторов красной эскадрильи! Сашка рассчитывал только на собственные силы и на капитана. А тут такая подмога подоспела!
Через минуту оба задержанных были уже на кухне Елены Кондратьевны. Раненный в плечо Букетов трясся от холода и боли. Сашкина пуля задела его чуть выше подмышки. Жена Дементьева искала бинт для перевязки.
Ротмистр Сабурин, окоченевший почти до бесчувствия, невнятно произнес:
— Ради бога, сперва стакан чаю или просто кипятку, господа! И разрешите присесть у печки. Потом — что угодно. Песенка спета. Я бесповоротно сдаюсь!
Глава одиннадцатая
Марфа-трактирщица
Часы-ходики в большой горнице неутомимо выстукивали: так и так! Так и так!
От пережитого волнения Макар не спал, хотя с полуночи в лесном доме водворилась тишина. Оба гостя скинули валенки и, не раздеваясь, легли по соседству с Артамоном на овчинах, брошенных по лавкам. Макару чудилось, будто не один он, а все в доме не спят из-за предчувствия какой-то опасности. Из конюшни время от времени доносило глухой мягкий удар. Это Сашкины горячие кони били копытами о деревянную стенку. Если такой удар раздавался громче, начальник поднимал голову и вслушивался в ночные шорохи. Вздыхал рядом с Макаркой и дед Павел.
Макарка ожидал, что кто-нибудь не выдержит этой тишины, но ему стало еще страшнее, когда дед Павел громко вздохнул и приподнялся…
— Барин! А барин! — услышал Макар дедов голос. — Слышь-ка, Павел Георгиевич! Уж коли нам обоим не спится, давай потолкуем. Будет притворяться-то. Отца твоего я с малолетства знал, да и ты — весь в него. Против тебя я, барин, никакого зла не имею, только спросить тебя про дело одно хочу.
Зуров сел на лавке, свернул самокрутку, протянул к лампаде лучинку. Спросил спокойно:
— Ты, дед, из наших солнцевских, что ли, Овчинниковых?
— Ну да, из солнцевских. На нашем краю, сюда, что от церкви к прусовской дороге, почитай, все одни Овчинниковы. А на том конце, к Дальним полям, там разные: семей пять Кучеровых, Генераловы, Павловы, Ратниковы… При мне всех-то дворов поболее восьмидесяти было… Пошто же ты, барин, мужиков наших спалил и побил?
В ожидании зуровского ответа дед тоже стал нашаривать кисет. Капитан Зуров босой прошелся по комнате, стряхнул пепел в горшок с геранью, отдал свою самокрутку деду для прикурки, а получив обратно, брезгливо швырнул самокрутку на печной шесток. Насмешливо переспросил:
— Ты про что, старик, толкуешь? Наплетут бабы невесть что!
— Ай не ты спалил? Может, в газетке напраслину пропечатали? Читал мне Степан, будто тебя и букетовского племяша мужики опознали, когда раненых вы с ним на улице добивали, да не всех добить поспели. Я не больно-то газетке и поверил. Чай, с крестом на шее ходишь.
— Слушай, дед, а меня-то самого разве мужики не спалили? От всех строений в усадьбе — ни кола, ни двора! От дома дедовского — одни головешки. Чем же за это расчесться было? Око за око!
— Значит, ты и спалил? Бог тебе судья. Ты скажи-ка мне, Павел Георгиевич, давно ли семейство твое солнцевским поместьем владеет?
— Давно ли? Считай! Стольник Никита Зуров от царя Михаила Романова в дар получил тысячу десятин костромской земли. Матушка Екатерина еще две тысячи прапрадеду моему подарила. А потом тезка мой, генерал, дед, полтысячи соседу в карты просадил. Вот и считай, давно ли мы нашей землей владеем, двумя с половиной тысячами десятин.
— Стало быть, лет триста, если от первого царя считать? Выходит, триста лет мужики не на себя, а на тебя работали. Сочти, кто кому зуб за зуб должен. А сожгли вас, говорят, не наши, а солдаты беглые. И то небось ни жены, ни детишек твоих из винтовок не побили.
— Нет у меня ни жены, ни ребятишек.
— Плохо, что нет. Своих вспомнивши, может, чужих не тронул бы. Я вот сам новым порядкам, власти красной не больно рад, царя жалею… Но в обиду не прими, барин: вы, господа офицеры, злодейством своим народ прямо в коммунию толкаете. Проклял тебя народ. Осталась тебе теперь одна дорожка — в туретчину либо в неметчину! В России тебе больше не жить.
— Будет панихиды петь! Когда к власти опять вернемся, не все старые порядки назад введем. Похлебка сперва прокипеть должна на огне, а потом, к еде, и приостывает. Сейчас все кипит, но недалек час, когда мы народ образумим. У красных дела плохи. Пермь уже наша. Слыхал?
— Туда, что ли, тебя Сашка проводить взялся? Еще снегу не слишком много, лесами проберетесь. Позднее и верхами по сугробищам не пройти будет.
— Нынче уходим… Что там за возня у ворот? Не Сашка ли уже?
Но в ворота стучался не Сашка, а какие-то обозники из Юрьевца, попросившие приюта на остаток ночи. В горницу сразу ввалилось много укутанных в платки баб и чужих мужиков. Прежним гостям пришлось потесниться. Зуров велел собираться в путь, не ожидая Сашку. Подозвал Марфу.
— Получи-ка за постой и угощенье!
Марфа небрежно прикинула на вес плотную пачку неразрезанных денежных знаков. Даже по обесцененному курсу они представляли собою порядочную сумму.
— Что больно расщедрился? Тут — за десятерых, товарищ дорогой!
— Может, не последний раз проездом. Зачти вперед. Собери парнишку и вели своему Степану и Артамону проводить нас верхами в Заволжье, чтобы кони дорогой не разбрелись.
С такими постояльцами не поспоришь! Владек и Макарка с опаской сели на горячих донцов, зато темно-гнедой красавец, которого взял в шенкеля Зуров, сразу почуял опытного наездника.
— Ну, хозяйка-певунья, прощай пока! Не забудь сказать Сабурину: пусть он скорее направляется в женский скит, за инокиней, чтобы не пришлось нам из-за нее четырнадцать верст крюку давать. Санки дай, чтобы скорее они до отряда добрались. Сашку с Букетовым прямо за нами следом пошлешь на его лошадях. Не спутай смотри!
Нет, Марфа ничего не забудет и не спутает! Далась же им всем эта святоша Тонька! И поп, и попадья, и даже мнимый чекист — все о ней хлопочут! Писала Серафима-попадья в письме Марфе, присланном с Макаркой: если станут спрашивать про Тоню-девочку, смотри, не скажи лишнего, не признавайся, что она несколько лет в трактире прожила. И дорогу в скит не вздумай кому показать, пока монашку не увезут подальше новые «богомольцы»…
Вот как ловко получается! Тоньку окаянную увезут. Кажется, и гора с плеч? Так нет же! Кого провожатым берут? Никого иного, как Алексашку! Желанного, бесценного, любимого! И поедет он, ненаглядный, с монашкой лесной дорогой, по тайным местам…
Наслышана Марфа, что в тайных скитах приключается. Ах, Тонька-разлучница, постница проклятая! В путь-дорожку готовится. А в дороге чего не бывает! Там проводник пригожий на ручках перенесет, как боярышню какую, там ступить пособит, там шубку накинет, а там и скинет… Святоша! Может, и песенку споют вместе, божественную. Вот посмеются-то над незадачливой, брошенной полюбовницей, Марфой-трактирщицей!..
Она проводила всадников взглядом. Уже вон они, на том берегу. Степан с тройкой, Артамон с парой Сашкиных коней, а три головных всадника — Зуров с Владеком и Макаркой — исчезают за деревьями заволжского леса…
У Марфы было много хлопот с гостями-обозниками, но злые, горькие думы о близкой встрече Сашки со святошей не давали покоя ни на минуту. Жгучая боль, жесточайшая на свете, от которой нет спасения ни во сне, ни наяву, — боль ревности, с такой силой терзала женщину, что она вслух тихонько стонала…