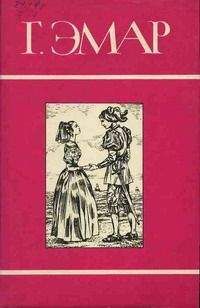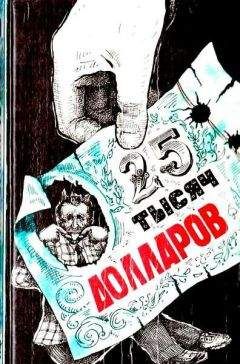Аркадий Савеличев - А. Разумовский: Ночной император
Истопник Чулков уже бежал вперед со словами:
— Я счас сам все проверю, я счас!..
В прихожей камергер передал Елизавету с рук на руки фрейлинам и горничным и только деликатно спросил:
— Я больше не потребен, ваше величество?
— Нет потребы, Алешенька, — пригнувшись, шепнула она. — Устала с дороги. Впрочем, далеко-то не отбывай…
Он склонился в лукавом поклоне. Едва ли так просто, да так рано, уляжется неугомонная путешественница. В Петербурге-то целая церемония — приживальщицы, сказочницы, да и просто сплетницы должны изрядно потрудиться перед сном, а уж после такой дороги — и подавно.
На правах поручика лейб-кампании переговорил с преображенцами, как устроить караул, да наказал буфетчику поскорее согреть их, чтоб вконец не замерзли. Пора было и о себе подумать. Его уже встречал посланный вперед личный камердинер:
— Ваши покои готовы, ваша светлость.
— Не сомневаюсь, Игнатий, — потрепал его плечо. — Покажи, где будет располагаться адъютант. — И уже ему: — Александр Петрович, не задерживайся. Мы тоже с тобой устали, а?..
— Устали, Алексей Григорьевич, — понятливо усмехнулся Сумароков.
Они разошлись по своим комнатам, жарко натопленным. Но ненадолго. Полчаса не прошло, как Сумароков постучался в дверь. Был он без шпаги, в легком домашнем кафтане, простой и доступный.
— Располагайся, я тоже не задержусь.
Видя такое дело, камердинер упростил переодевание и умывание. Повар, как и многие слуги посланный вперед, доложил:
— У мени усе згодно, ваша вельможность.
— Добре, Гнате. Галушки есть?
— А як жа! И кулебяка. И каша гречневая с потрохами. И буженинка, як…
— Як у жинки это самое?..
— Га, ваша вельможность, — заржал повар.
Был он, конечно, из хохлов. Возлюбил Алексей земляков, что делать… Даже Елизавета, по его примеру, баловалась малороссийской кухней, хотя лейб-медик Лесток с ужасом взирал на все эти борщи, галушки, кулебяки и особливо на кашу гречневую. Не смел сказать, что государыня от малороссийских жирных яств неудержимо полнеет, лишь деликатно предупреждал:
— Не испортить бы дражайшее пищеварение, ваше величество…
— А что мне станется! Петрова я дочь аль нет?
— Петрова, ваше величество, Петрова.
— Тогда пробуй кушанья да и молчи.
Француз Лесток давился крутой гречневой кашей, но одобрительно извещал:
— Извольте кушать, ваше величество.
— Изволю. С превеликим моим удовольствием.
Именно это и имел сейчас в виду Алексей, говоря своему адъютанту:
— С превеликим удовольствием, Александр Петрович, а?
Сумароков по малости службы еще не знал этой царской присказки, да и не охоч был до каш, но тоже подтвердил:
— Истинное удовольствие. Под венгерское-то!
— Ну их, мадьяр. С морозу-то Петровой благости?
— Петрово слово, Алексей Григорьевич!
— За все Петрово… а можливо будет — и за гарну дочь Петрову!
Как ни следил он за собой вот уже десять лет, а в некоторые хорошие минуты хохлацкое прорывалось. Сумароков успел заметить эту непотребу, улыбнулся.
Посчитал за добрый знак. Петрово слово пошло по-дружески.
VI
Следующий день Елизавета провела во Всесвятском. В радужном настроении и в предвкушении самого важного события в своей жизни. До дня коронации оставался еще месяц, но такие дела в спешке не делаются. Так уже 28 февраля императрица, доехав до Тверской-Ямской слободы, пересела из саней в парадную карету. Начался торжественный въезд в Первопрестольную. На Красной площади загремели пушки, ударил Иван-колокол. Боровицкие ворота — настежь, дорога к Успенскому собору выметена до снежинки. Императрица пошла пешью, в окружении всей свиты и сановного духовенства. По сторонам шпалерами выстроились первостатейные москвичи и купечество. По-за их спинами теснилось простонародье. Густые цепи гвардейцев еле держали благостный коридор. Елизавета шествовала отменно, гордо неся еще не коронованную, но отливавшую искрящимся золотом голову. По правую руку семенил племянник Петр, герцог Голштинский, только что вызванный теткой и уже провозглашенный наследником; был он вертлявым, невзрачным недоростком, которого не красили и расшитые парадные одежды.
Первый камергер Разумовский возглавлял свиту; она держалась сзади в двух шагах, чтобы не заслонять державную поступь. У бывшего певчего слух был отменный: даже через спины московских сановников долетел ехидный шепоток:
— Гли-ко, паря, что за дитятко сопливое трется о царскую руку?
— Ш-ш ты!.. Наследник, бают.
— Каки следы?..
— Ш-ш… дурень! Царские следочки!
— Да цари-то у нас — что Петр, что дочь евонная! Кака ж сопля в цари?
— Ш-ш, гвардейцы…
Перчаткой кожаной заткнули слишком болтливый рот, и уж точно: своей соплей умылся…
Иван-колокол за такие разговорчики грозу грозил; меньшие колокола грозу эту услужливым напевом подстилали, а подголоски и вовсе красным бархатцем заглаживали. Не слыхала императрица зряшных шептунов, а новоявленный наследник и слышать ничего не хотел. Он попрыгивал в тени грозной теткиной ручки, чему-то глуповато усмехался да шмыгал носом под российским ветерком.
Невелика дорога — от Боровицких ворот до Успенского собора. Елизавета встала на императорском месте; царицыно место заранее уготовили наследнику. Пред алтарем Новогородский архиепископ Амвросий приветственную речь держал:
— Прииде, о Россия, твоего благополучия твердое и непоколебимое основание. Прииде крайнее частых и весьма вредительных перемен твоих окончание и разорение. Прииде тишина твоя…
Под эту достохвальную, благостную речь камергер. Алексей Разумовский, стоявший сразу за спиной императрицы, совсем неблагостно подумал: «Вот откоронуемся, а по весне опять воевать со Швецией. Да ловить разбойников, от которых к приезду императрицы маленько очистили Москву, а дальше-то?.. Одной ли тишью-благодатью живет Россия?»
Вслух не проговорился.
Хоть и поручик этих гвардейцев, а ведь, поди, и на него найдется кожаная рукавичина? Не привык он к таким парадам, скучновато было, потому и мысли зряшным сором на этот чистый каменный пол опадали. Держи, держи себя, казак, под уздой!
Парадный въезд в Первопрестольную, на поклонение мощам царских предков, — где в золоченой карете, где пешью, а где и церковным тихим шажком. Елизавете в этот утомительный день предстояло еще посетить Архангельский собор, да и Благовещенский заодно. Как без того! Когда она и ее свита, в большинстве своем старческая, были уже без ног, соблаговолила сесть в карету. Следовательно, и всем остальным разрешалось. Алексей Разумовский, очутившись у себя дома, хотя и на колесах, нетерпеливо кивнул заскочившему следом адъютанту:
— Передохнем?
Сумароков не заставил себя ждать. Кожаные карманы камергерской кареты, следовавшей везде позади свиты, были предупредительно заряжены.
— Кажется, не подвели мои хохлы?
— Как можно, Алексей Григорьевич! Или сильно любят своего знатного земляка, или сильно боятся? Моя дворня так вконец распустилась. Что делать — не знаю…
— В шею — да и со двора вон.
— С кем же я пребуду? У Сумароковых и всего-то несколько сот душ осталось: стыдно сказывать!
— Так ведь у тебя талан, Александр Петрович. Чай, поднесешь государыне оду-то? На такое восшествие!
— Даст Бог.
— Так Бог же ручкой государыни и соблаговолит прибыток… Впрочем, не слишком ли мы заговорились?
Карета государыни остановилась на Яузе. Пришлось оставить уютный домок и вновь при шпагах бежать вслед. Елизавета и без того оглядывалась, не видя своего камергера. Алексей виновато поклонился. И при таком парадном шествии она не преминула погрозить пальчиком, как бы ненароком выскочившим из муфты. Так и слышалось: «Ах шалун!»
Уже недалеко было до зимнего царского дома. Головинского дворца, но там опять триумфальные ворота, под которые обязательно надо было пройти. Пред вратами благостно выстроились сорок воспитанников Славяно-греко-латинской академии: все в белых платьях, с венцами на головах, с лавровыми листьями в руках. Будто февральского ветродуя и не было! Синея от запуржившего снега, они завели длиннющую кантату, в которой промерзшему камергеру запомнились слова:
Приспе день красный,
Воссияло вёдро…
Он не утерпел, склонился к уху своего адъютанта:
— Каково? Вёдро? Бр-р?..
Адъютант вступился за неведомого пиита:
— Кантата достохвальная. Полно смеяться, Алексей Григорьевич.
Вечером, когда уже все наотдыхались, наелись и всласть после такого трудного дня упились, Елизавета сказала:
— А что, друг мой нелицемерный, у врат высмеивал?