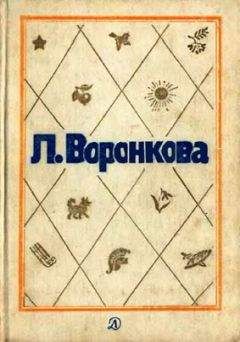Анна Караваева - Собрание сочинений том 1. Золотой клюв. На горе Маковце. Повесть о пропавшей улице
— Ах ты, проклятуща!..
— Погоди, язык-от те пообрежем!..
— Вот брякнем ей сейчас про дружка…
Алтайка сорвала сердце и уже повернулась уходить.
— Стой, девка!
— Ну?
— Знаешь, где Степан-от? За бабой в город поехал, за женой… А ты ему хоть помри… Бабу вот себе привезет…
И рудничные показывали ужимками, как ладно будет Степану с привезенной из города женой.
Алтайка будто вросла в землю, руками сдавила грудь. Потом, не мигая, отвернула от уха звенящую подвеску из медных шариков и ярких бус и подошла ближе. Будто мучимая жаждой, она тихонько облизывала запекшиеся от волнения губы и, пугливо кося глазами, слушала злые, как полынь, вести.
— Ну, что стала? Поди, поди!.. — крикнул кто-то из рудничных.
Алтайка, как безумная, бросилась вверх по тропинке, царапая себе лицо и оглашая горы протяжными стонами.
Подошел Василий и упрекнул озорников:
— Зря вы хорошую девку обидели. Зла от нее никто не видал. Бессовестные вы люди!
Вскоре на рыбалке встретили кержацкие ребята охотников, что птицу возили в форпост «Златоносная речка». Охотники рассказали, что видели своими глазами, как увозили из форпоста беглых.
В поселке это известие встретили по-разному.
Сеньча закряхтел, зло мотая головой.
— Была у Степки заковыка в башке. От книжек это, от их самых… А Марей — связался черт с младенцем… Акимко… Ну, в том давно кровь испортили, с его что возьмешь… Ниче для себя не старался… И все они трое такие.
Ребята из кержаков всегда стояли за Сеньчу, — тоже о хозяйстве готовы денно и нощно печься: так-де и надо было ждать, что эти трое сгибнут.
— Дурачье! Аль вы вовсе без разума? — вдруг вскипел Василий. — Чай, их про нас пытали. Видно, они выдать нас не пожелали, а то бы их не увезли…
— Хы! Сказал тоже. Нас выдать!.. Да таких делов и быть не должно, коли люди с одной земли добро для своей жисти брали.
— Как на кого!
Рудничные, узнав про беду, вспыхнули как порох.
— Не, мы не дураки, тож оставаться.
— Теперя не обманешь.
— Видно, ишо не дошли до вольного места.
— Опять начальством запахло.
— Туда уйдем, где начальства и духом не слыхать.
— Тут нам не доля!
Решив уйти, они стали забирать себе косы, топоры. Наплели себе кошелок и до отказа набили их рыбой вяленой, картошкой, мукой. Налетели к их избушкам Сеньча, ребята из кержаков. Сеньча так и кипел непереносной хозяйской обидой.
— Чо, окаящие, творите? Хозяйство рушите? Тащить вздумали? А? Не дадим!
Молодые кержаки тоже наступали:
— Не дадим!
Рудничные же словно вина выпили. Они замахали косами, вытащили и топоры из-за поясов, бранью и криками встречали миролюбивые уговоры Василия:
— Брось, робя!.. Ей-бо!.. Уж начали жить и будем дале тут…
— Наживесся тут курой во щи… Хо-хо!..
Василию полюбилась красивая кержачка Татьяна.
Услыхав, как она кричала и препиралась — и сам ввязался в ссору.
Вставало солнце, желтое, словно курма — горный цветок с пушистым, как щека ребенка, листом. Заря разгоралась, обливая пронзительным светом взбушевавшийся поселок.
Стояли друг против друга две породы людей: домовитые хозяева и переметный, неспокойный, легкий на подъем рудничный люд.
Уходящих на лучшие вольные места было больше, чем остающихся. Те и другие расстались, добра не вспомнив.
— Зря мы вас приняли, дьяволы.
— Свой хлеб-от ели, хайлы жадные!
— Сами хайлы! Изб добрых после себя не оставили…
— Будете хвастать, так в наследье подпалим ишо…
Большая горластая толпа ушла в горы. Сеньча помрачнел, но к полудню разошелся.
— А бастей так будет, робя! Теперя дружней будем по-нашенски жить. Мышины души, струсили… Не слыхивал я, чтобы с Бухтармы людей ловили. Алтай-хребет, батюшко наш, не допустит сюды незнакомого человека.
И с песнями началась косьба.
Рота дружно взбивала пыль.
За ротой лениво покачивались казацкие пики. Казаки скучали и то и дело прикладывались к флягам у поясов. Солдатам было труднее. Пыль набивалась в рот, в ноздри. Черные треуголки грели солдатские лбы. Офицеры били в скулу, а то и в зубы, если нарушался ранжир.
Молоденький прапорщик, узкогрудый, с сутулой спиной, сосредоточенно-сердито подергивал поводья. Ездил он плохо: дергался, съезжал с седла, и острые его лопатки беспокойно двигались, как крылья еще не окрепшего цыпленка. Прапорщик знал, что ездит никудышно, и злился.
Позади ехало самое большое начальство края, и прапорщику хотелось гарцевать, красуясь на красавце коне. Но лошадь была под стать седоку; низкорослая, вислозадая, — было отчего злиться девятнадцатилетнему прапорщику, которому еще так недавно улыбалась за обедом ее превосходительство. И прапорщик, перекашивая еще мальчишески-румяное пушистое лицо, орал ломающимся басом:
— Эй, ты! Шаг у тебя какой, подлец?
— Брюхо подбери, шку-ура!
Горные офицеры ругались крепко, и ему не хотелось отставать от людей.
Солнце жгло. Привал был короток, и отдохнуть вдосталь не успели. Солдаты устали от офицерских кулаков и матерщины, от духоты, от горячей, как железо, земли.
Впереди ослепительно сияли белки. Ниже — прохладные леса, ниже зеленые скаты алтайских нагорий. Под уступами, в выбоинках, среди цветов и мшистого камня бьют рудниковые струи. Тут бы лежать, курить или хотя бы голову освежить под струей родника!.. Эх!.. И солдаты враждебно думали о «беглой сволочи», что заставила их шагать по жаре.
— Доберемся до вас, щучье семя! Погоди!
— Всыплем! Инператорские законы соблюдай!
На белом коне ехал Качка в шляпе походной, с малой кокардой и пером.
Рядом ехал Фирлятевский, чуть покачиваясь на седле. Он обливался потом, страдал, но не снимал белых перчаток — хотелось попасть в тон небрежной, изящной манере Качки.
— К обеду будем у цели, ежели воля господня сохранит погоду столь благоприятной.
И Качка благоговейно перекрестился.
В передних же рядах, в крытой повозке, окруженный дулами ружей и остриями казацких пик, сидел Аким. На худом иссохшем лице горели запавшие глаза. Аким видел только солдатские спины, колыханье большого белого полотнища с золотым орлом. Знамя то свивалось, как жгут, то вновь развертывалось, вздувалось, золотой орел сиял, рос и вонзался клювом в отупевшую голову Акима.
Акима колотили по плечу.
— Вставай, варнак, вылезай! Поведешь!
Спала жара. Ковыль на степи — серебряная река. Над самой же головой Акима выступы, кряжи, обвалы каменных глыб, площадки обомшелые, семейки веселые хвойные, пестрядь цветов — ревнивая тайна, изначальный узел дорог к родному гнездовью.
Аким рухнул на коленки, обнимал чьи-то пыльные сапоги, шпорой оцарапал в кровь себе щеку… Гладил ноги, глядел кому-то в лицо. Слезы изжигали, слепили ему глаза.
— Ваше благородие… братцы… голубчики… убейте… застрельте на месте… на своих веду… Братцы родименькие… совесть ведь… не могу…
Встряхнули за плечи так, что прикусил язык.
— А соль помнишь, аспид? А? Помнишь? Соль да пуля для тебя, обманщик, всегда наготове.
И Аким повел…
В молодой лиственничной рощице, откуда последний извив тропинки ведет прямо вверх к селышку, вспорхнуло Акимово сердце, послало вестку своим — свистнул он охотничьим тревожным посвистом.
И пал под выстрелом рядом с тропкой, еле примяв тощим телом молодую траву.
Посвист охотничий, последнее дело Акима на земле, услыхала Анка, на бревнышке она кормила ребенка.
— Наши ребята идут!
Анка прижала к себе еще сосущего Сеньку и побежала к травяному выступу над тропинкой поглядеть и первой поздороваться с запропавшими мужиками.
Высунула Анка улыбчивое лицо над тропой… и, чуть не уронив Сеньку, рванулась назад — так белка несется по стволу от охотника.
Снизу шла серо-зелено-красная, рассыпная, головастая лавина, колючая от штыков. А над ней взвивалось белое с золотым орлом, царское знамя.
Анка, не помня себя, неслась к косьбе.
Задыхаясь, полупадая и затыкая рот ревущему Сеньке, крикнула:
— Мужики-и! Солдаты идут!
Крикнула бы Анка: «Бухтарма высохла» — не было бы того с Сеньчей и со всеми. Только Сеньча простонал неслышно:
— Да чо ты, баба?..
Анка крикнула истошно:
— Да ведь солдаты идут! Мужики!
С косами наотвес понеслись все к выступу горы над тропой.
— A-а… За душой идут…
Сеньча весь дрожал от напряжения.
— Тащи, бабы, камни! Боле! боле!
На коленях, приникая грудью к земле, он размахнулся.
Ринулся камень вниз, а оттуда раздался жалобный вскрик. Затрещали выстрелы. Белое полотнище встало, развеваясь золотым орлом.
Убрали на носилки тело молодого прапорщика с мальчишечьим лицом. Ему размозжило голову камнем.