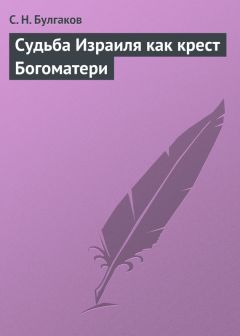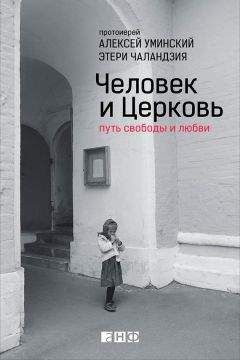Иван Супек - Еретик
Должно быть, галерея тянулась дальше, в подвал для пыток, поскольку оттуда неслись крики и вопли. Горько пожалел Доминис о своей прежней конуре, где он мог хотя бы слышать шаги солдат и монахов-доминиканцев на спиральной лесенке. Теперь к одиночеству присоединится еще одна пытка, самая ужасная, – близость страшного подвала. В дробном перестуке деревянных сандалий доминиканцев он различил легкие шаги еще двоих людей, шедших босыми. Должно быть, ученики ею были на исходе своих сил, когда их сунули в одну из соседних нор. В каменных нишах огромного мавзолея заживо гнили закованные в железо люди, которым не было доступа даже в тесный закоулок, где инквизиторы вели дознание; если же случалось, что ослепших узников выводили на трепетный свет, то это означало только, что своей мертвеющей рукой они привели сюда кого-то еще. Бремя вины придавило старого учителя. Проповедь истины в эту эпоху – гибельное занятие. Восторг и жажда познания увлекли юных монахов из их тесного ущелья в подножиях Мосора, где они мирно прожили б свой век, пусть даже в нищете, если б случайно янычары не посадили их на кол как папских шпионов. Он же с абсолютной надежностью доставил своих учеников в самые нижние круги Дантова ада; и если оглянуться на прошлое, то окажется, что его извилистая тропинка никуда вовсе и не могла привести. Но он-то должен был это понимать с самого начала, прежде чем стал учить. Редко удавалось истине победить зло, обычно она приносила погибель своему защитнику. Отворив ученикам двери в храм запретной науки, он привел их к краю пропасти, по которому близорукие и довольствующиеся малым проходили удачно, а они пошатнулись. Не наступила еще пора выплакать в глухой тишине весь свой ужас, возможно, подобная минута никогда не наступит. Следовало раньше, как, впрочем, и теперь, молча пасть ниц перед всемогущими негодяями, но и это может оказаться недостаточным. Сызмалу внушали ему наставники, как надо читать молитвы, заучивать изречения апостолов и восхвалять римского первосвященника. И хотя питомец иезуитов сопротивлялся тому, что считал пасилием, но то была испытанная мудрость поколений, лишь постигнув которую можно было вступать в жизнь. А что он дал своим ученикам? Иллюзию, которая в конце концов вдребезги разбилась о каменные стены.
Крики становились все более громкими и невыносимыми. Теперь Доминис узнал голос. О господи милосердный, ведь это кричал Иван. Слышно было, как натужно скрипел ворот. Голос его ученика, искаженный нечеловеческой болью, по-прежнему самый милый, призывал учителя: «Dorainis salvator!»[48] Как жутко он выкрикивает в лицо своим мучителям: «Dominis salvator!» Юноша умирает с ого именем на устах, а он, его наставник, корчится на полу, немощный и отчаявшийся…
XI
Возбужденный комиссарий рассказал подоспевшему Скалье о нечаянном визите папы. О чем тот беседовал с Марком Антонием, осталось тайной, однако всем бросилась в глаза необыкновенная гневливость Маффео Барберини, который после этого свидания пожелал лично присутствовать на строгом дознании учеников еретика в Палате пыток. В Театральном дворике под ногами расползались лужицы, было сумеречно, по хмурому небу бежали низкие облака. Отовсюду неслись крики и стоны. Суета в крепости продолжалась и после визита первосвященника. Утомленные допросами в Палате пыток доминиканцы вылезали из подвала, а невыспавшегося инквизитора комиссарий. Священной канцелярии повел в противоположную сторону, к двери под помпейскими термами, где находились камеры для самых закоренелых преступников.
С отвращением шел кардинал из Бахусова сада в Замок святого Ангела. Пусто было в душе у него, и пусто было вокруг. Эту пустоту напоминанием о пережитых муках нарушило появление обвиняемого. Впервые встречались они в низком и мрачном пыточном застенке под Театральным двориком. В одном углу этого подвала стояло деревянное колесо, в другом – скамья с испанскими сапогами, в третьем – находился выложенный кирпичом очаг, повсюду лежали какие-то тиски, сверла, бичи, гвозди, разной формы сосуды неведомого назначения. Возле самого входа зияла ниша, куда привязывали человека, чтобы пытать его по способу древних китайцев равномерно падающими на голову каплями воды. Посредине заваленного отвратительным инструментом помещения стояло красивое климентинское кресло. Паж, которым в первую очередь обзавелся бывший аскет, принес из салона Климента ренессансный подсвечник и поставил его на доску костодробилки. Трепетные язычки пламени, медленно утопая в восковых чашах, уступали дождливому утру, блеклый свет которого проникал из коридора. Обессиленный кардинал, успевший накинуть роскошный пурпурный плащ, не смотрел на обвиняемого. Дознание его больше не волновало. Он достиг того предела, за которым все становилось обыденным и бессмысленным. Его утомленный взгляд отдыхал лишь на изящных изгибах подсвечника, который удерживали, слившись в объятии, позолоченные фигуры Адониса и Афродиты. Красота этой группы была совершенной, гармоничные пропорции и строгие формы изумительно соответствовали друг другу. Смысл жизни был утрачен навеки, и обрести его вновь было невозможно, поэтому пассивному созерцателю оставалось теперь лишь наслаждаться прелестными изображениями, удивительным образом ожившими в нежнейших переливах утреннего света.
– Понимаю, – нарушил обвиняемый тягостное молчание.
Инквизитор был настолько поглощен созерцанием чудесных фигур, что не сразу осознал, что именно понимает этот человек, и, лишь когда тот с мучительным стоном повторил это слово, пришел в себя.
– Понимаешь? Что?
– Невозможно настаивать на всех своих тезисах.
– Ты готов от чего-то отказаться?
– Да.
– Как на тонущем корабле?
– Да. – Потерпевший кораблекрушение не противоречил своему допросчику.
– Наиболее опасно для тебя все, что ты писал о папе.
– Я отказываюсь от этого, – обреченно махнул рукой Марк Антоний.
– Отказываешься?
– Отказываюсь.
– Прямо с палубы в море?
С самого начала подводил Скалья старого упрямца к этому акту, но, когда он состоялся, испугался сам. Человек у него на глазах обратился в прах, увлекая в бездну вместе с собой и его, своего судью. День за днем, неделю за неделей вырастал перед ним облик еретика. И ничтожный инквизитор жил его величием. Гнушаясь по временам своим занятием, он тем не менее понимал, что дознание создавало ему некоторый ореол; и эта внезапно обретенная значительность сказывалась в изменившемся отношении к нему окружающих. Он стал персоной грата, тайным советником, охранителем догматов, которому надлежит осудить самого мудрого противника Рима. Знакомые смиренно обходили его, опасаясь задеть, горожане на улицах снимали шапки, женщины склонялись к его ногам. Скалья предчувствовал, что он будет обладать этим могуществом ровно столько времени, сколько будет находиться у него под дознанием еретик, и затягивал следствие к неудовольствию и папы, и генерала. И чем настойчивее подгоняли его Барберини и Муций, тем сильнее не желал он закапчивать процесс, тем меньше хотелось ему лишиться залога своей новой силы. Нет, нет, сперва нужно укрепить собственные позиции в курии! Он жаждет угодий, гарантий, наград, дарственных, прежде я ем сыграет свою роль. И вот то, чего он опасался, случилось: титан сломлен и вместе с собою увлекает в бездну своего инквизитора. Пытаясь удержать реформатора от падения, Скалья принялся потихоньку раздувать пепел, надеясь оживить в сердце Доминиса ненависть к их общему тирану:
– Следовательно, папа не монарх и не насильник, он не грабил твоих общин, он не разбойник, не развратник, не… не… Можешь ли ты написать иную книгу «О церковном государстве»?
– Попытаюсь… – сокрушенно пообещал кающийся.
– С прежним вдохновением, с прежней логической остротой ума?
– С большим опытом.
– Ты познал папу Урбана Восьмого, как и я. Ты знаешь, что он властолюбив, надменен, предан телесным наслаждениям, словом, он таков, каковы были папы до него и какими они будут после него, ибо святой престол в своем чреве носит подобных ублюдков, и это неизбежно, если следовать твоим выводам.
– Мои прежние выводы были основаны на недостаточных предпосылках.
– На недостаточных предпосылках? И ты понял это лишь теперь, в темнице?
– Нечто сломилось во мне еще раньше, при дворе Иакова, поверь. До своего отъезда в протестантские земля я видел лишь одну сторону, и притом только из одного, сплитского угла.
– А вдали римский паноптикум предстал перед тобой в увеличении?
– Сомнения стали точить меня, едва я попал в Англию. Печатая там сплитскую рукопись, я просил папу не бросать сразу в огонь мою книгу, но дозволить…
– …дозволить распространение твоих книг? Тех самых, где ты провозглашаешь папство вырождением христианства? И призываешь епископов к бунту против святого престола? Мне кажется, что большего фарисея церковь еще не вскармливала.